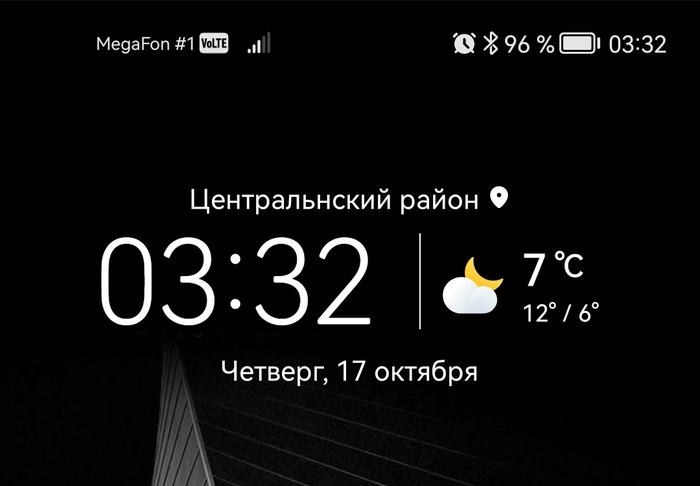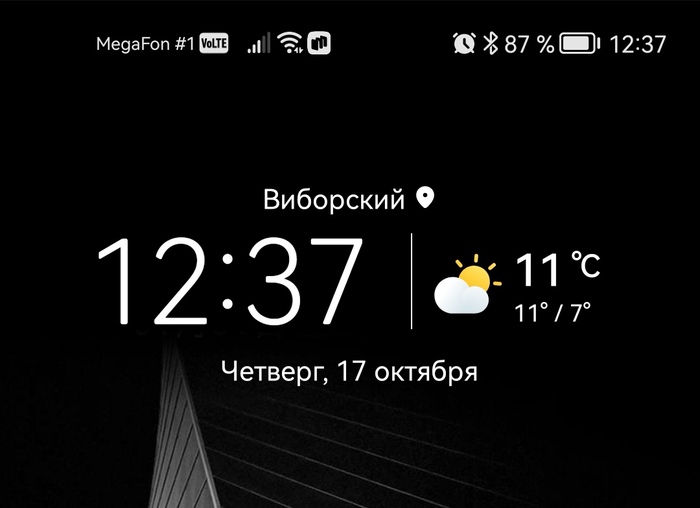Lepenson
Домашнего насилия псто1
Днесь тут была ностальгическая волна о жестоких родителях (особенно отцах), которые всячески измывались, унижали и били своих дочерей. Я сначала читал и ужасался, а потом вспомнил занятный случай.
В нашей школе дискотеки не проводились — кагбе считалось, что у нас тут гимназия, облико морале, приличным детям не пристало и всё такое. Потому мы всем кагалом бегали в школу соседнюю, где у меня учились друзья и где по субботам гостеприимно распахивал свои двери актовый зал. Я там за десятый класс настолько примелькался, что в какой-то момент прочно поселился за пультом: "диджеям" интереснее было пить водЬку и щупать залётных пэтэушниц, чем сводить треки, а мне наоборот. Но речь не об особенностях танцевальной культуры поздних 90-х.
Как я указал выше, дискотеки привлекали народ. Ходили туда и мои одноклассницы, прознав о мероприятии от меня. Естественно, мероприятие не обходилось без принятия — нцати грамм на грудь, для куража и плавности движений. Но некоторые растворы коварны, и вот одна барышня пала жертвой. Практически буквально: для сохранности её пришлось соскрести с пола и уложить в диджейской рубке до конца праздника.
После окончания кутежа мы вспомнили о горизонтальной камрадессе и пошли воздвигать её на опоры. Опоры шатались. Но как в том мультфильме, "у меня ноги, а мне домой". Не вопрос, решили мы коллективно, взяли мадаму под белы рученьки и поволокли, благо не сильно далеко.
На звонок в домофон спустился отец подгулявшей девы. Он с понимающей успешкой принял тело по описи, вздохнул: "Перегуляла, хороняка", — и придал некоторое ускорение дочери лёгким шлепком ниже талии. Клянусь, легчайшим, родительски-любовным. Свидетелями могли выступить все присутствовавшие.
А в понедельник я в столовой случайно подслушал, как слегка отёкшая фемина, хрипя от обиды, вещает с броневичка. Оказывается, она совсем чуть-чуть выпила, сама дошла до дома, а там её жестоко унизил и на глазах у невесть откуда взявшихся нас избил тиран-отец. Я так крепко изумился, что даже не додумался встрять и поведать миру, как оно всё случилось на самом деле.
И вот теперь я сижу, вспоминаю этот затейливый анекдот, перечитываю слезливые истории обстрадавшихся в детстве пикабушниц и улавливаю некий характерный паттерн...
Ответ Lullaby.1 в «Добрая маман»29
На мой нихрена не мозговедческий взгляд, причин для взять и выбросить нечто ценное для близкого человека примерно две.
Первая: проверка границ дозволенного. Если человек примет ситуацию, в которой ЕГО вещами распорядился кто-то ДРУГОЙ, причём без спроса и без уважения, — так вот, если он умоется и скажет "ну ок", то это же отлично, можно на таком человеке ездить и крепким словцом погонять. Если же возмутится — ага, есть ещё куда психику ломать и волю подавлять.
Вторая: удаление фокуса зоны внутреннего комфорта. Если у ТЕБЯ есть место, время, символы ТВОЕЙ внутренней свободы, ТВОЕЙ самоидентификации, ТВОЕЙ собственной жизни в широком смысле — для МАНИПУЛЯТОРА это очень плохо. Потому что это будет то, на что ты станешь опираться, когда будешь сопротивляться ЕГО подрывным действиям. А значит, это от тебя надо удалить, обесценить, разрушить.
Вот так вижу ситуацию. И да, грешат этим в основном матери и жёны. Корни явления тянутся, кмк, ещё из тех времён, когда более физически слабой женщине надо было цепляться за мужика и детей, чтобы нидайбох (точнее, дух предков) не бросили её одну на съедение пещерному медведу. А для этого надо было сделать так, чтобы вся их жизнь крутилась вокруг жены/матери, не допуская и мысли о сторонних увлечениях. Тогда и вросла в генофонд эта тяга к манипуляциям, подковёрной борьбе и скрытному властолюбию.
Хуже мертвеца
Говорят, если казнить убийцу, одним убийцей станет больше. Но как-то же можно решить этот вопрос?
Вонь и холод.
Лежать на бугристом полу, скрючившись в три погибели, чтобы уместиться, было терпимо. Цедить из битой плошки отвратное месиво, тщательно катая на языке, обманывая звенящий от пустоты желудок, было терпимо. Слушать, как по коже пробегают мокрицы, как с потолка падают высосанные пауками тараканы, как возле самого затылка умывается обнаглевшая крыса, было терпимо. Но вонь и холод…
В камере не прибирали. Зачем? О ком заботиться? Сюда заходили один раз и выходили тоже один. Если — когда — у насельника возникали потребности, в его распоряжении имелась каменная клетка шаг на шаг. Ну, широкий шаг. Самое то облегчить душу.
Из забранного толстым прутком окошка постоянно тянуло сквозняком. Тоже не самым благоуханным: за решёткой открывался не вид на улицы, а глухой пыльный жёлоб. Откуда по нему сюда под землю поступал промозглый, липкий воздух, можно было гадать. Но недолго.
А, ещё цепь. Судя по толщине звеньев, из того же прутка, что и оконная решётка. Хорошая цепь, основательная. Ржавый, но крепкий браслет на ноге соединялся ей с массивным кольцом, вделанным в камень стены. К такому лошадь привязывать, а не живого человека.
Живой человек выглядел хуже мертвеца. По крайней мере, вонял так же. Да и потемневшая от холода кожа выглядела убедительно. Единственное, что выдавало — пальцы. Едва уловимые движения: выдернуть целую соломинку из той груды, что гнила на полу, завязать узелок раз, узелок два, потянуть, выпрямить… И возле стены вставала ещё одна тоненькая фигурка, отдалённо похожая на человечка. Целый ряд фигурок.
Сколько всего было жертв? С одной стороны — кто их считает. Нищие, калеки, пьянчуги, рвань и дрянь. Те, кого не вспомнит улица, о ком не станут грустить соседи, к кому на могилу не придёт родня. С другой стороны, власть не любит, когда в столице начинают резать население, а она к этому непричастна. У власти монополия на насилие, и делиться ей… Да, забавно.
Ещё одна соломинка. Про этого говорили, что его нашли в бочке со свиной кровью на заднем дворе мясника. Перерезанное горло щедро плескало, разбавляя главный ингредиент знаменитой на всю столицу колбасы. Говорят, мясник с той поры двинулся умом, завёл огородик и ест одну только зелень. Жуткая доля, никому не пожелаешь.
Крыса закончила умываться и потянула воздух своей усатой розовой сопелкой. Одновременно где-то в дальнем конце коридора заскрипел ржавый замок. Живой человек, выглядевший хуже мертвеца, одним ловким движением сцапал грызуна, свернул ему шею, а потом впился в тушку на удивление сохранившимися зубами. Да, конечно, не кровяная колбаса, но всяко лучше, чем месиво из плошки.
Тем более что и месива больше не дадут.
Дверь в камеру тоже скрежетнула запорным механизмом, зевнула чадливыми факелами. Человек, не глядя, вытянул в проём закованную в железо ногу, дождался, пока спадёт привычная тяжесть. Потом бросил остатки крысы в угол, подтянулся и встал, упираясь в потолок плечами. Факелы кивнули. Пора.
Вонь сменилась почти сладкими поцелуями утреннего ветерка, а холод — жарким покалыванием рассветного солнца. Пришлось прикрыть глаза ладонью, чтобы не потерять их, привыкшие смотреть во тьму. Интересно, привыкли они уже в камере — или ещё до? Самое время для философских вопросов.
Человек подсознательно ждал, что будет толпа, гвалт, свист, взрывы хохота, крики «Га-арячие пирожки!» Но площадь стояла пустой. Так, по стражнику с каждого угла невысокого деревянного помоста. Ещё четверо вели его. И на помосте подле невысокой колоды стоял последний участник постановки.
Хорошо одетый, явно успевший с утра вкусно позавтракать и освежиться тип носил красную бархатную маску. Какая банальщина. Маска была полной, с прорезями только для глаз. В руках типа поблескивал широкий меч без острия — орудие палача, но не убийцы. По лезвию вились узоры, складывавшиеся в надпись. Кто-то когда-то сказал, что там выбито: «Когда я беру меч в руки, то желаю грешнику вечной жизни». Ох уж эти святоши.
Человека, разглядывавшего декорации, легко похлопали по плечу, напомнив, зачем он тут. Согласно покривившись, он сделал шаг на ступеньки, коротко сбегавшие с помоста. Ещё шаг. Последний. Вот и колода. Вот и меч.
А потом тип в маске протянул своё орудие человеку. Опустился на колени, лёг головой на побуревший от времени толстый обрезок бревна. Посмотрел сквозь прорези, глаза прямо в глаза. И подмигнул.
Меч без острия, предназначенный, чтобы рубить, а не колоть. Двуручный хват, короткое тяжёлое лезвие, острейшие грани. Он не приносит боль, он приносит облегчение. Человек постоял возле колоды ровно мгновение, потом сделал полшага назад, поудобнее перехватил рукоять — и махнул со всех сил.
Голова покатилась по помосту. Маска слетела, и на человека обернулось лицо покойника. Его собственное лицо.
Тогда он увидел всё. Как его моют, бреют, расчёсывают и одевают. Как кормят изысканными, но лёгкими деликатесами. Как дают хорошие, умные и глубокие книги, как одаривают достойной и мудрой беседой. Как он, сидя на ветви раскидистого дуба, встречает рассвет и вдыхает его всей грудью, и не может надышаться от восторга. Как идёт по улице, слушая радостные искренние приветствия. Как сидит в церкви, слушая поистине божественные песнопения, и по щеке катится прозрачная, словно душа, слеза.
Тогда он увидел всё. Как его разделили пополам, взяли из сердца самое дурное и самое доброе, развели по углам и отправили одну часть в мерзлую вонючую камеру, а другую — в гостеприимный тёплый дом. Как дали настояться, окрепнуть, утвердиться в своём новом бытии. А потом снова свели на помосте.
Тогда он увидел всё. Увидел, как казнит сам себя. Как вся его тьма, некогда заливавшая улицы кровью невинных, смотрит в тускнеющие глаза всему его свету. Свету, которого и так было немного. Свету, которого больше не будет.
Сладкие поцелуи утреннего ветерка. Жаркие уколы рассветного солнца. Меч без острия.
Католическое танго
Вчера Евангелье, сегодня Откровенье,
И нет надежд на благовест и воскресенье.
У инквизитора сомнения ни тени,
Зато уверенность в конце.
Мы все идём под звуки бодрых песнопений,
Под крик "Аминь!", под треск пылающих поленьев.
И от метания меж непростых решений
Цветут морщины на лице.
А вавилонская блудница на зверюге
Произнесла довольно внятно: "Кали-юга!"
Её округлости колышутся упруго...
Но верен шаг и ясен путь:
Мы все идём под звук торжественных хоралов,
И низвергаем лжекумиров с пьедесталов.
Чтоб Откровение реальностью не стало,
Свой катехизис не забудь.
В своих скитаниях по запрещённым книгам
Нам очень часто вместо книги кажут фигу.
А инквизиторы в сутанах и калигах
Поют над нами свой экзорцизм,
Поют над нами свой экзорцизм.
Я подарю тебе билет на "Dies irae",
И это мило, Боже мой, как это мило.
Беги, любимая, кострище не остыло,
А то сожгут за сатанизм.
В горах моё сердце
Молодой британский кот Майкл слегка кошмарит пожилого шотландского кота Саймона. Бегает за ним, порывается обнять и облизать. А Саймон не любит все эти ваши нежности, он мизанткот. К тому же претензии к англичанам у него наверняка в крови. Орёт, шипит и убегает.
И вот мы сейчас наблюдали, как Саймон короткими перебежками, практически завернувшись в маскировочный килт и укрываясь за рельефом стремится в лоток. Сам собой на свет явился стих:
Среди вереска и скал
Срёт шотландский аксакал,
Пока борзый англичанин
С тылу вдруг не прискакал.
На волне постов про подростковые попадалова
Думать головой в пятнадцать лет — полезнейшее умение. Жаль, не все им владеют.
Мои пятнадцать пришлись на конец девяностых. Мы с друзьями к тому моменту уже выработали некую стратегию выживания — по району передвигались исключительно стайкой. А сами понимаете, компашка резко вытянувшихся за лето парней — приманка для прекрасного пола: к нам начали прибиваться мои одноклассницы. Вечерние посиделки с гитарой где-нибудь на детской площадке, откуда нас ещё не гоняли... Романтика.
И вот как-то мы топали в сторону облюбованного сквера, где наши нестройные песнопения теоретически никого не должны были побеспокоить. Шли себе, никому не мешали. Вдруг бац: из-за угла выруливает натурально толпа. Широкие штаны, вязаные шапки, надвинутые по кончик носа, толстовки с баскетбольной символикой: рэперы. Музыкальные субкультуры как раз тогда были на волне.
Ну, думаю, сейчас нас будут немножко бить. Ан нет, опознал пару знакомых из своего двора. Привет-здорово, чё-как, куда таким кагалом.
— Да там разборка со скинами, — отвечает один, ненавязчиво поигрывая кастетом. — Ща ещё народ подтянется.
И ускоряет шаг, догнать умчавшееся в горизонт подразделение.
Что делают мои одноклассницы? "Ребята, давайте сходим, посмотрим!" Что делают мои друзья мужского пола, услышав новости? Правильно, резко ускоряют шаг в сторону, противоположную той, куда отправились бойцы. Девчонки на нас ещё неделю потом дулись, подкалывали на тему трусости и вслух фантазировали, как это могло бы быть интересно, но не было.
А вы говорите, инстинкт самосохранения в пятнадцать лет. Нет его у девочек в большинстве случаев. И в более зрелом возрасте тоже, как правило, не отрастает. А потом на Пикабу всплывают слезливые истории...