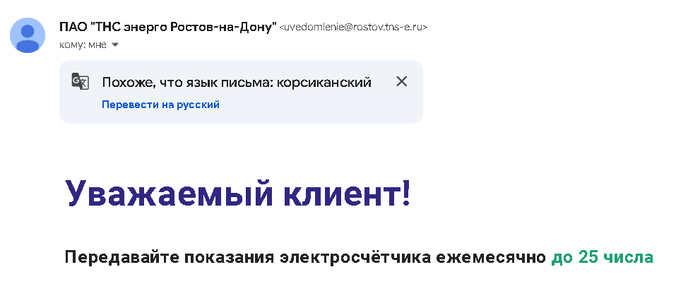ГЛАВА 3: НАПОЛЕОН — ВЛАСТЬ КАК ИСКУССТВО И БЕЗУМИЕ
Сцена оформлена величественно. На экране появились орлы, лавровые венки, карта Европы с датами, гремящими как молнии. Из колонок звучит марш, потом гаснет. На сцену выходит Ведущий в темно-синем пиджаке, будто взятом из военного мундира. В голосе слышался азарт.
— Вот он. Император. Не по крови, но по таланту. Не по праву, но по воле. Человек, который заставил Европу говорить по-французски, бояться по-русски и воевать по-его.
Встречайте. Наполеон Бонапарт.
На сцену вышел Наполеон. Он невысокий, как и положено, но не смешной. Он точный как лезвие. На нем не было орденов, но в его глазах светилась карта будущего.Он сел сложтв руки на животе.
— Спасибо, что не встретили пушками. Это… ново.
— Для вас может. Для нас это редкость: вести диалог с человеком, чей силуэт был крупнее его армии.
— Сила не в численности. Сила в ясности. Я всегда знал, чего хочу.
— А чего вы хотели, Ваше Величество? — спросил ведущий, — Славы? Бессмертия? Или просто чтобы карта соответствовала вашему эго?
— Я хотел порядка. Империя это же не только армия. Это структура. Это музыка, в которой даже барабаны подчинены гармонии.
— Музыка, говорите? Значит, вы художник? А войны, завоевания, кровь, сотни тысяч погибших — это… мазки?
— Власть это искусство, но холст живой. И если ты дрогнул, тебя перепишут.
— Тогда вопрос прямой. Ваше Величество вы художник или палач?
— Я реальность, а реальность всегда кого-то режет.
— А не кажется ли вам, что художник, творящий мечом, рано или поздно станет заложником своей же рамы?
— Вопрос, а кто рисует первым? Если ты не пишешь историю, ты становишься строчкой в чужой.
На экране появляются цитаты Наполеона, битвы, границы, венки. Слова “Ватерлоо”, “Аустерлиц”, “Кодекс”, “Остров Святой Елены”. Они сменяют друг друга, будто биография в огне.
— А где в этом человек? Вы любили кого-нибудь… по-настоящему?
— Я любил Францию, а всё остальное были её проекции.
— Она учила меня проигрывать. Это редкий дар.
Наполеон сидит, как камень. Ведущий движется, как мысль.
— Империя это автопортрет, — сказал ведущий, — И в каждом автопортрете есть… трещина. Где ваша?
— Там, где я забыл, что я человек. И начал верить, что я миф.
Свет на сцене становится более резким, почти клиническим. На экране начинается чередование триумфальных арок и пустых тронов. Камера медленно приближается к лицу Наполеона, как к экспонату в музее. Ведущий шагает медленно, будто расставляя мины.
— Мы говорим о власти, как будто она инструмент. Но давайте будем честны, власть это зависимость. Вы были зависимы, Наполеон?
— Я был необходим. И когда ты необходим, ты не зависим. Ты центр.
— Прекрасная уловка, но ведь центр тоже может быть тюрьмой. Когда ты не можешь отойти в сторону, потому что всё рухнет. А может, вы боялись быть… просто маленьким?
— Я был маленьким, но каждый, кто смеялся над его ростом, забывал, как низко потом ему приходилось кланяться.
На экране всплывает силуэт Наполеона на фоне огромной карты. Он крошечный, но всё вокруг реагирует на него.
— Тогда вы не человек, а функция?
— Я был фокус, точка, в которой сошлись страх, надежда, ревность, свобода, дисциплина, хаос и расчёт. И всё это, вы называли «нацией».
Пауза. Наполеон впервые молчит. Смотрит в сторону. В зале повисла звенящая тишина.
— После, когда вы упали. Точнее сказать, когда вас изгнали, предали, когда Франция отреклась от вас.
— Я понял, что люди не любят величие. Они его терпят, пока оно побеждает, а потом растаптывают, чтобы не чувствовать вины.
— Значит, вы знали, что падение неизбежно?
— Нет, но я знал, что оно возможно, и всё равно шёл наверх. Потому что даже падать с Олимпа достойнее, чем жить в подвале.
На экране показались кадры острова Святой Елены. Письменный стол, чернильница, карта, которую никто уже не передвигает.
— И всё же… Вы бы снова пошли тем же путём?
— Конечно, потому что я жил. А не просто просуществовал в рамках приличий.
— Даже если знали, чем закончится?
— Это был не конец. Это был апогей. Я был велик, потому что не прятался от величия.
Даже когда она обернулась проклятием.
Свет поменялся. На экране появились глаза Наполеона, превращающиеся в зеркало. Ведущий смотрел в них и видел в них себя.
— А может, вы просто хотели, чтобы вас боялись?
— Боялись? Нет. Я хотел, чтобы мой страх стал чужим уважением.
Темнота на сцене сменяется холодным светом, будто освещение допросной комнаты. На экране появляются фрески с изображениями Наполеона: в короне, на коне, на троне. Затем появляются их копии, искажённые, размытые. Ведущий подходит ближе. Между ним и Наполеоном возникает едва заметное напряжение)
— Вы окружили себя генералами, художниками, чиновниками… Но кто из них мог сказать вам правду?
— Я слушал только одного.
— Себя. Потому что только я знал, что хочу услышать.
Молчание. В зале лёгкий нервный смех. Ведущий улыбается, это он и ждал.
— Значит, вы создавали не империю. Вы создавали эхо. Вы не лидер. Вы зритель спектакля о себе.
— Все великие лидеры это архитекторы мифа. Я строил не Францию. Я строил Наполеона. И, поверьте, он вышел убедительным.
— Убедительным дума да, но выжившим скорее нет. Может быть, вы просто были фанатом себя?
— Не фанатом. Проводником. Я верил в того Наполеона, которого сам же создал. И иногда , он был сильнее меня.
На экране появляется автопортрет Наполеона, глазами художников, глазами народа, глазами врагов. Все разные. Но на всех не он.
— Значит, миф вами овладел?
— Миф это защита, когда ты у власти. Реальность становится слишком хрупкой, а миф держит форму.
— Но цена? Какого цена? Цена это доверие, близость, человечность.
— Все это мелочи. Главное победа.
— Хорошо, но вы ведь проиграли. Вы остались один. Вы не победили даже самих себя.
— Возможно, но я заставил миллионы поверить, что можно стать чем-то большим, чем тебе велели быть. Пусть даже на время.
На экране появляется картина, юный Бонапарт, сидящий над книгами, южный акцент, идущий против французской элиты. Затем картина с коронации. Зал глух. Все слушают.
— И всё же… Кто был настоящий Наполеон?
— Тот, кто не знал, что он маленький, пока весь мир не начал ему это доказывать.
— Теперь я выше, чем когда-либо, потому что больше не должен побеждать.
На сцене тёплый золотистый свет. На экране — отрывки писем Наполеона к Жозефине, написанные каллиграфическим почерком. Наполеон молчит. Ведущий читает.
— «Жозефина, ты не пишешь мне. Ты забываешь своего Наполеона. Но он живёт тобой. Я не могу дышать без твоей тени», — ведущий поднимает глаза, — Красиво, но ведь это не любовь. Это… зависимость.
— Любовь это и есть зависимость. Жозефина была тем, кто напоминал мне, я не только меч, я кожа, я пульс. Именно поэтому я её и изгнал.
— Изгнали, потому что любили? Не понимаю.
— Потому что я любил империю больше. Жозефина не могла родить мне наследника.
А я не мог позволить себе быть мужчиной, а не системой.
— Но ведь вы уничтожили сами себя, когда отрезали себя от неё. Жозефина была вашим голосом разума, а после неё осталась только амбиция.
— Возможно, но разум не выигрывает сражений, а амбиция да.
На экране появляются сцены из битвы при Ваграме, Аустерлице, затем — Жозефина в саду. Противопоставление молчаливое, но жестокое.
— Давайте сыграем, — ведущий садится удобнее, – Я Жозефина. Вы тот, кто уже проиграл. Что вы мне скажете?
— Я выбрал Францию, а потом Франция выбрала забвение. Ты была домом, а я мечтал стать землёй.
— Ты не умел быть любимым. Ты умел только быть нужным.
— А разве это не одно и то же?
Тишина. Ведущий встаёт. Смотрит Наполеону прямо в глаза.
— А если бы тебя не изгнали? Если бы ты продолжал править, побеждать, расширяться…
Ты бы стал чудовищем?
— Я уже был им, но чудовище, которое знает, что оно чудовище — опаснее, чем то, что верит в своё величие. Я видел грань, и переступил её ради формы.
На экране появляется ледяная сцена из Москвы. Сгоревшие улицы. Французские солдаты в снегу. Потом появляется лицо Жозефины. Не обвиняющее.Она смотрит, как будто знала всё заранее.
— Значит, вы проиграли не в Ватерлоо. А тогда, когда перестали быть… любимым?
— Я проиграл, когда поверил, что можно заменить любовь поклонением. И построил храм, в котором было холодно даже мне.
На полу на сцене появляется дна белая линия, как черта жизни. На экране чередуются статуи, надгробия, обложки книг. Всё про одного человека: Наполеона. Но образы — разные. Противоречивые. Несовпадающие.
— Как умирает власть? С выстрелом? С подписью? Или… когда больше некому подчиняться?
— Власть умирает, когда ты становишься символом. Символ больше не командует. Он на стене. На купюре. В учебнике. Он безопасен.
— Я был неудобен. И все неудобные однажды становятся либо иконами, либо проклятием. Иногда они становятся и тем, и другим.
(На экране появляются сравнения: “Герой Франции” / “Палач Европы”. Цитаты Чёрчилля, Толстого, Стендаля, Меттерниха.
— Но если убрать все фанфары, статуи, легенды… Что останется?
— Человек, который хотел всё. И не знал, как жить, когда начал терять.
— То есть вы признаёте, вы не умели проигрывать?
— Я не верил в поражение как финал. Для меня проигрыш был просто началом нового маршрута.
— Но смерть, это не маршрут.
— Смерть это репетиция, а настоящая битва идёт за память.
На экране происходит смена: детские книги, фильмы, военные парады, карикатуры. Всё — про Наполеона. Всё — разное. Один образ сменяет другой. Память неустойчива.
— Память о вас спорна. Вы и герой, и захватчик. И законодатель, и убийца. А что, если вы просто диктатор с хорошим пиаром?
— А что, если все великие диктаторы с хорошей историей? Цезарь. Александр. Пётр. Мы не выбираем, как нас назовут. Мы лишь решаем, стоит ли быть названным вообще.
— Я уже бессмертен. Не потому, что живу, а потому, что спорят, кто я был.
На экране появляются кадры: муляж шляпы Наполеона, его саркофаг в Доме инвалидов, Google-запросы: “Наполеон — герой или тиран?”.
— Да. Потому что пока ты лишь повод для вопроса…ты ещё не исчез.
В зале тихо. На экране появляется надпись: “Никто не победит того, кто не сдаётся. Но тот кто сдаётся становится легендой”.
— Остров Святой Елены. Точка, с которой не возвращаются. Император на острове это почти как бог в чулане. Что вы там поняли?
— Что шум не синоним жизни. И что когда все молчат, ты впервые слышишь себя.
— Голос, который я глушил 20 лет. Он говорил: “Ты всегда был один. Даже в толпе. Особенно в параде.”
На экране появляются замедленные кадры из жизни на острове. Тропинка. Буря. Один силуэт у скалы. Наполеон без мундира. Без короны.
— Говорят, величие — это умение остаться собой после всего. А кем были вы, когда всё исчезло?
— Человеком. Не символом. Не тенью. Не афишей. Просто человеком, который ошибся не в расчётах…А в понимании зачем всё это.
— Чтобы доказать… себе… что я существую. Но победа не даёт этого ощущения. Оно приходит… когда ты проиграл. И всё ещё хочешь жить.
На экране появляется белая стена с надписью: «Покой начинается, когда больше нечего защищать».
— Вы ведь были окружены людьми. Вокруг вас была армия, народ, а потом вы остались ни с кем. Что страшнее: война или одиночество?
— Одиночество. Война требует решения. Одиночество требует смысла. И если ты не знаешь, зачем ты тонешь.
— Вы ведь знали, что умрёте в изгнании?
— Да. И всё же каждое утро вставал. Потому что мне нужно было проигрывать достойно.
На экране появляется запись: «Он просыпался не ради будущего, а чтобы не исчезнуть полностью».
— Значит, главное не власть?
— Главное не исчезнуть в ней. Ты думаешь, что правишь, а она тебя переписывает.
И в конце, на острове, ты понимаешь, что вся твоя империя внутри тебя, или нигде.
На сцене загорается зеркало. В нём отражается Наполеон. Один. В пустоте. Без ордена. Без титула. Человеческое лицо. Не миф.
— Вы знаете…Я боялся вас. Боялся, потому что в вас было то, чего я сам боюсь, это абсолютность. А ещё… я вами восхищался.
— Потому что вы шли, когда уже не было уверенности. Когда вас ненавидели. Когда даже вы сами себе не верили. Вы шли.
— Потому что стоять, это больнее. Когда ты стоишь, ты слышишь, а когда идёшь, то глушишь сомнение шагами.
— А если бы была возможность…Вы бы пошли этим путём снова?
Наполеон встаёт. Не торжественно. Просто. Как старик. Но всё ещё — Император.
— Я бы пошёл. Потому что не идти, значило бы предать себя. А я предал всё. Жену. Страну. Мораль. Но…Я не предал себя.
— Что вы хотите, чтобы помнили о вас?
— Пусть спорят. Пусть сжигают. Пусть цитируют и вырезают, главное чтобы не молчали.
— Тогда ты уходишь…но не умираешь. Потому что молчание, последняя форма власти.
И если ты её выдержал, значит, ты был больше, чем легенда.
На экране появляется портрет Наполеона, нарисованный вручную. Медленно выцветает. Осталось только лицо. Человеческое. Сломанное. Гордое)
— Последнее слово, Император?
Наполеон делает шаг к залу.
— Величие…это быть непонятым и всё равно идти.