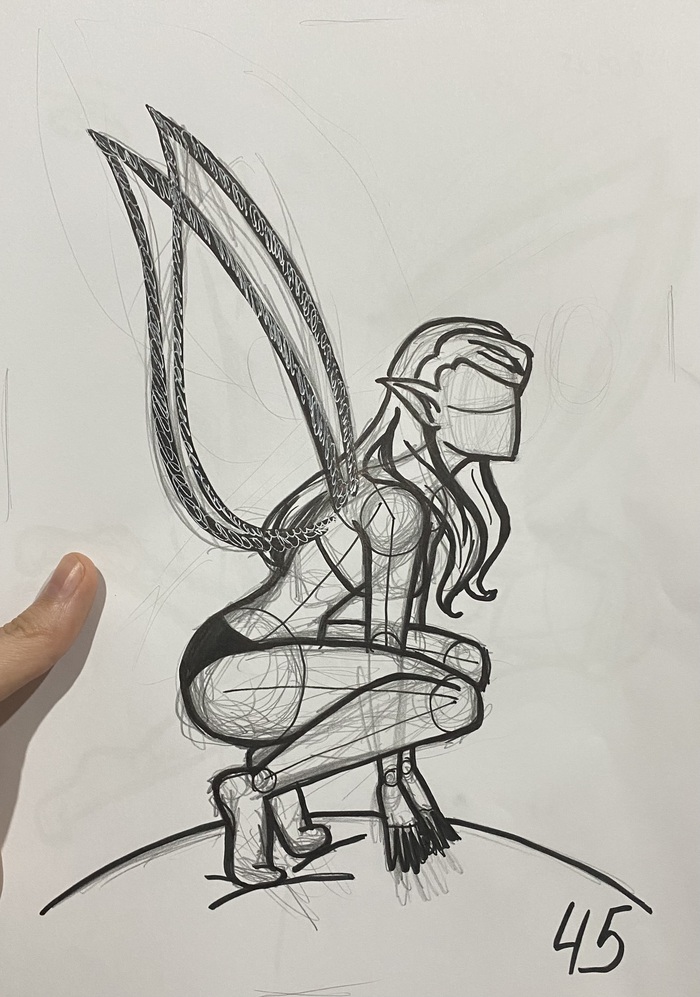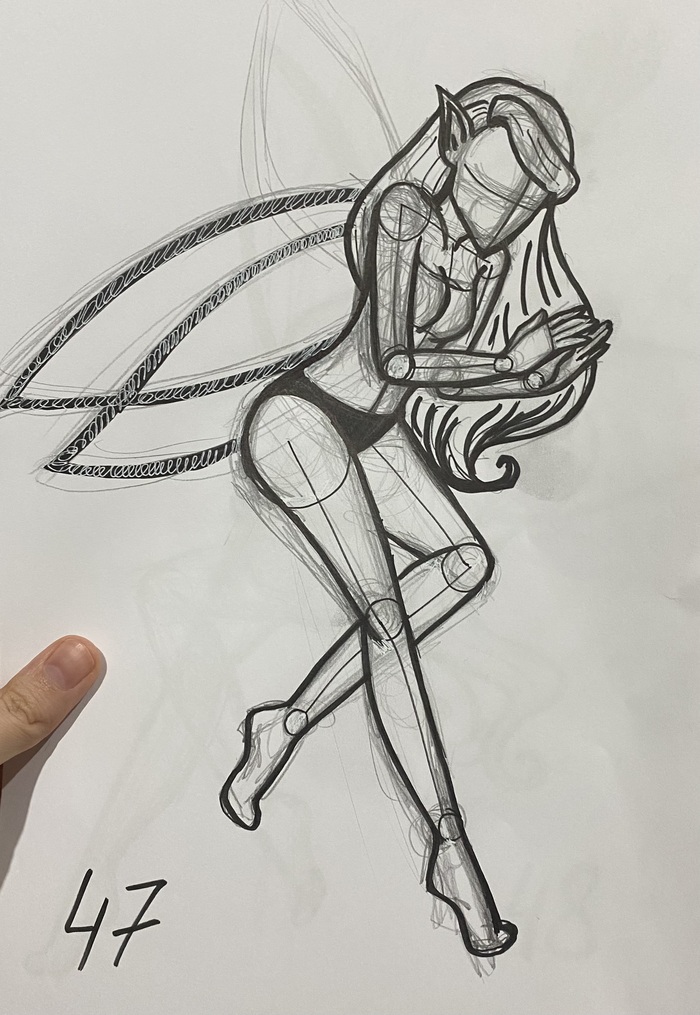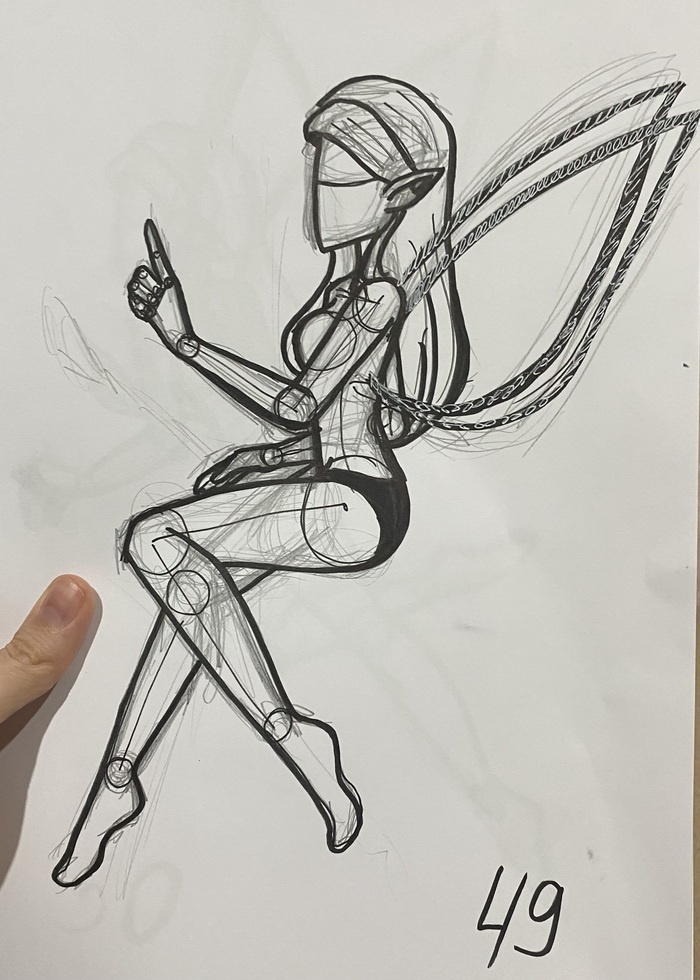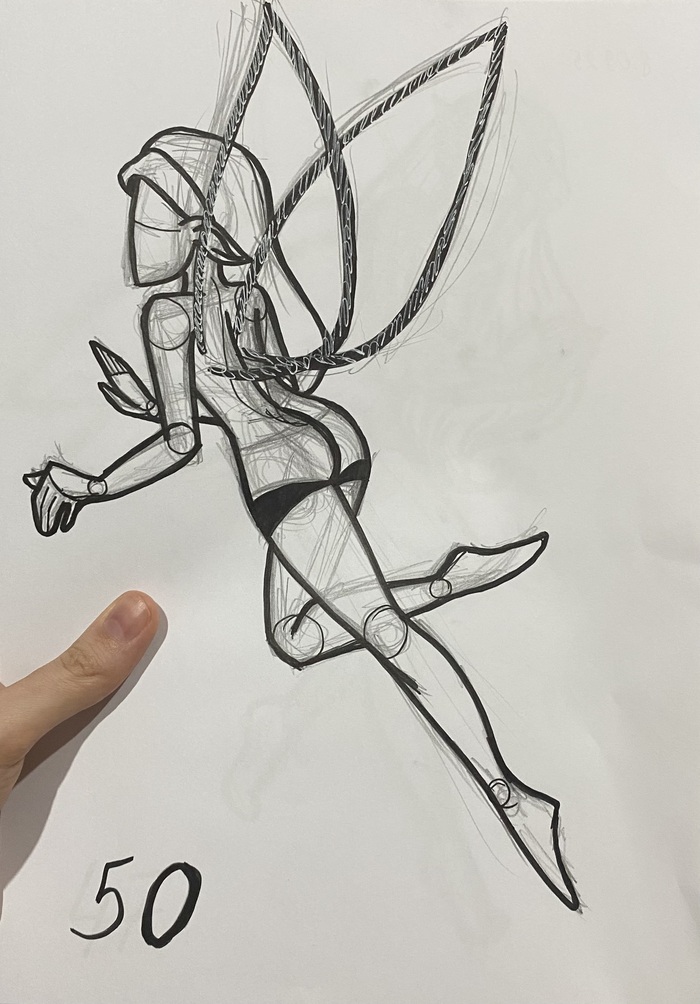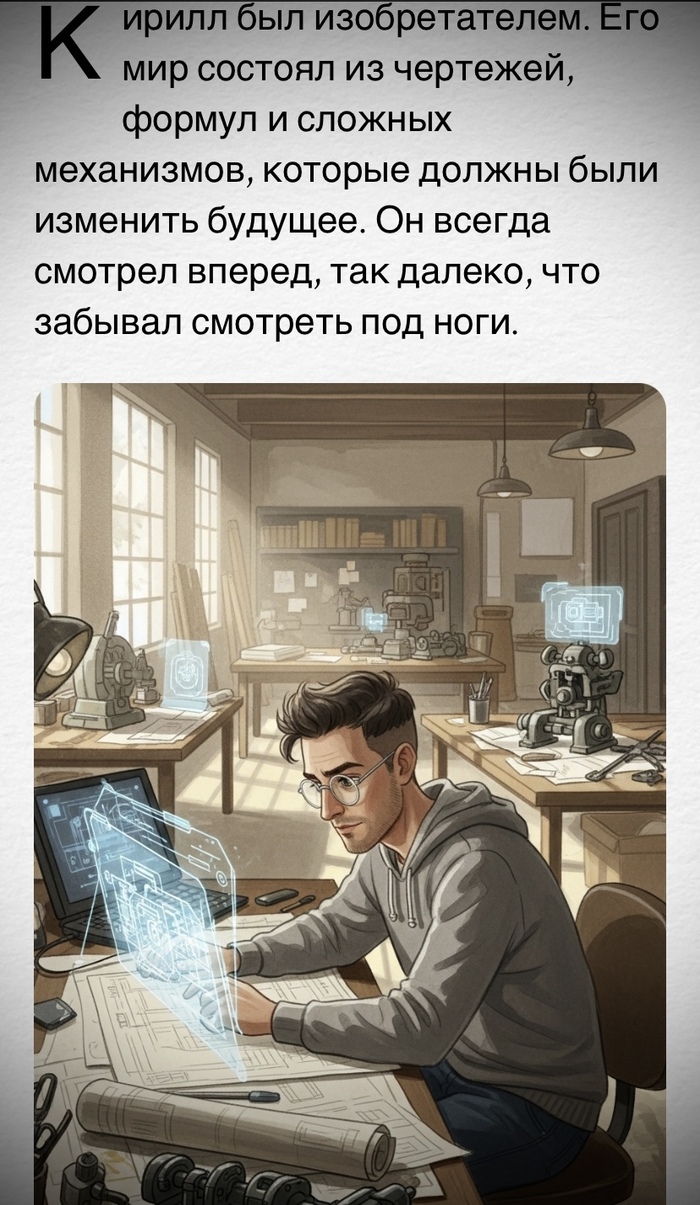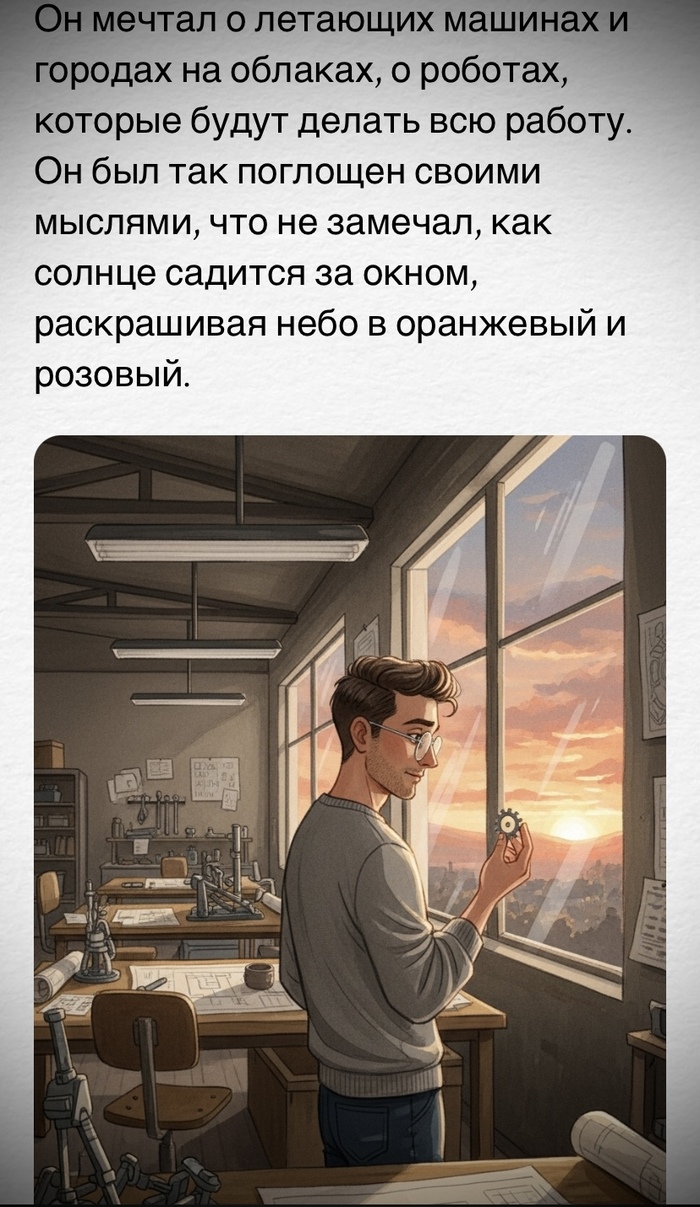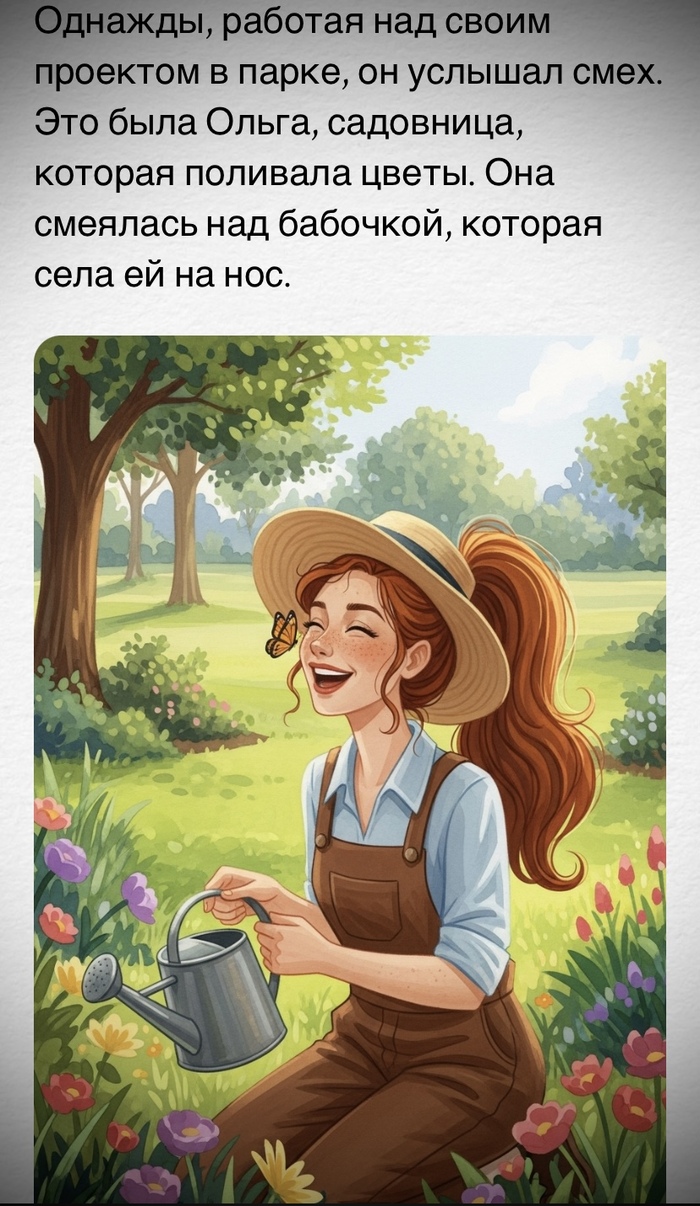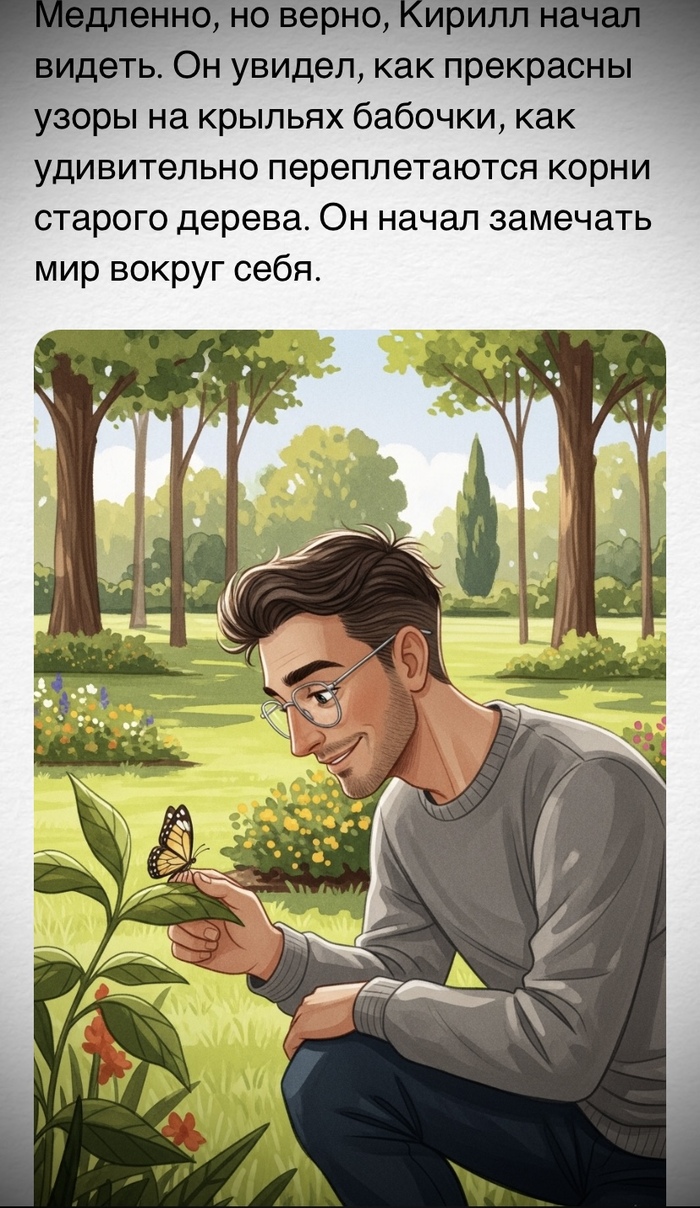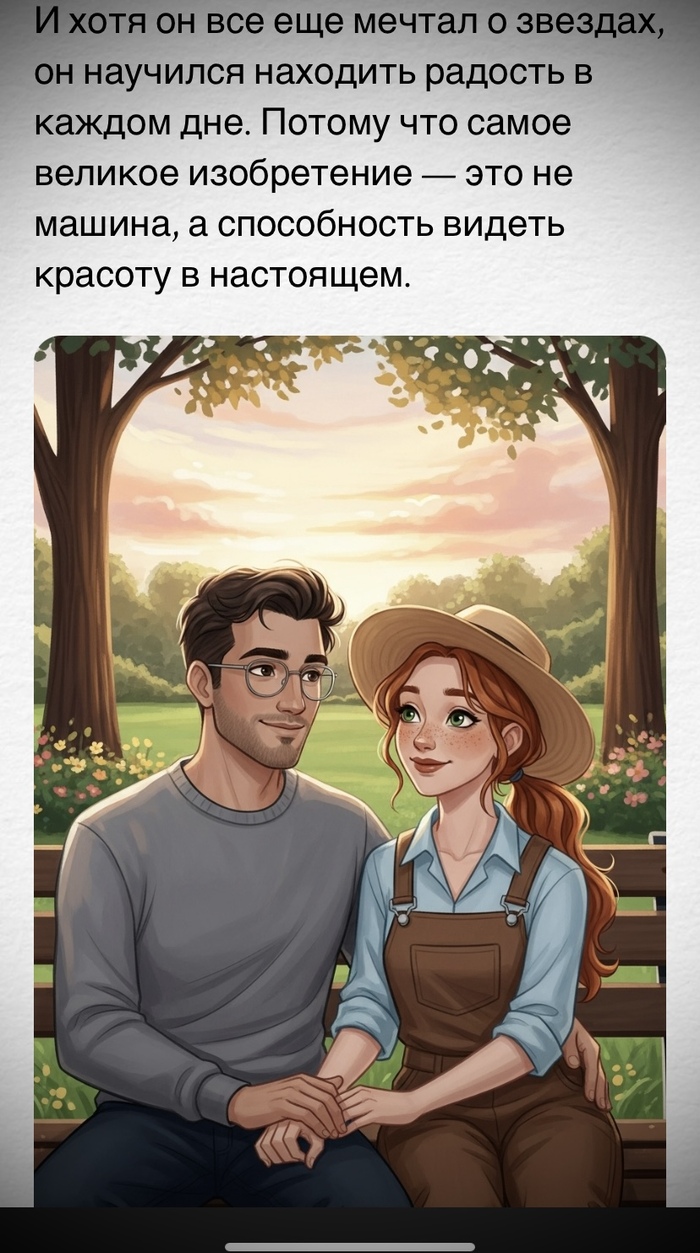— На пятнадцатый глоток Вук всегда икает, — с уверенностью провидца провозгласил один из купцов, сгребая с стола несколько серебряных монет. — Ставлю еще пять крон, что и сейчас икнет!
Его напарник, жирный и потный, хмыкнул, вытирая платком шею.
— Держи пари, что этот старый глупец свалится раньше. Видал я таких выживших из ума стариков. Льют в себя, держатся, держатся, а потом — хлоп — и готово. Как подкошенный. Десять крон на него!
Их охранник уже не дремал. Он с тупым, животным интересом наблюдал за состязанием, время от времени почесывая затылок массивной рукояткой своего топора.
Трап, сидевший в стороне, смотрел на это безумие с выражением крайней брезгливости и недоумения на лице. Казалось, он сам себе не верил, что этот старый пьянчужка всего несколько недель назад спас гному жизнь, заменив казнь на изгнание.
Трактирщик Орт стоял поодаль, прислонившись к откосу, и его поросячье лицо было искажено немой, вселенской мукой. Он смотрел на осколки разбитого кувшина, валявшиеся на полу, как полководец смотрит на поле боя, усыпанное телами его лучших солдат.
— Опять битая посуда, — заворчал он, обращаясь к миру вообще и к подошедшей Талагии в частности. Его голос звучал как скрип телеги по щебню. — То ли дело в былые времена. Швырнешь в буяна кувшином — и ни одной трещины! А нынешняя глина... одно расстройство. Жизнь нынче — медяк, а посуда —золото.
Баронесса холодно окинула его взглядом, в котором читалась вся ее накопившаяся усталость и презрение. Ее пальцы, занесенные было к поясному кошелю, дрогнули. Вместо медяка она вынула серебряную крону. Не золото, конечно, но целое состояние для подобной дыры. Монета, сверкнув в тусклом свете сальной лампы, описала короткую, уверенную дугу и с глухим, весомым лязгом приземлилась на стойку перед трактирщиком.
— Заткнись, —голос лю Ленх был тихим, но резанул, как лезвие. — Возьми деньги, принеси мне вина. Живее!
Жадный, мгновенный блеск в маленьких глазках Орта вспыхнул и тут же погас, поглощенный привычной скорбью о бренности бытия. Он швырнул свою вечно грязную тряпку под стойку и с видом мученика, идущего на костер, поплелся к бочке. Серебро исчезло в складках его засаленного фартука быстрее, чем мысль в голове пьяницы.
Глаза баронессы метнулись к Рейстандиусу. Старик как раз залпом осушил очередной кубок и с довольным видом выдохнул струйку едкого дыма прямо в неподвижное, как маска, лицо Вука.
— Чувствуется легкая нотка... ржавого гвоздя? Или это послевкусие отчаяния местного винодела? — поиздевался маг, и в его выцветших глазах плясали озорные искры.
Вук в ответ лишь хрипло крякнул, будто подстреленный кабан, и потянулся за следующим кувшином с видом обреченного на каторгу. Его лицо, ранее землисто-серое, начало медленно, но верно менять цвет, прокрашиваясь свекольно-багровыми пятнами.
Талагия залпом осушила свой кубок одним долгим, горьким глотком, сжав веки в попытке не ощутить полноту вкуса. Вино было откровенно отвратительно — кислое, с явным привкусом гнили и давно не мытой посуды, но оно делало свое дело: притупляло остроту восприятия, сглаживал острые углы этого мерзкого вечера, и сейчас это было единственным, что имело значение.
Воительница больше не могла выносить это унизительное зрелище: старый маг, с упоением глотающий отраву, тупые, опьяневшие рожи разбойников, жадные, взгляды купцов и всепроникающая, тошнотворная вонь, которая, казалось, уже въелась не только в одежду, но и в самую древесину стен, в копоть на потолке, в сам воздух, став его неотъемлемой частью.
Она резко встала, с силой отодвинув лавку с таким душераздирающим скрежетом, что даже охранник на мгновение захрипел тише и беспокойно заворочался, и направилась к грубой, неотесанной лестнице в углу зала, что вела в темноту второго этажа.
— Орт! — бросила она через плечо, даже не утруждая себя поворотом головы. — Где мои покои?
Трактирщик, не отрывая жадного взгляда от серебряной монеты, которую он начищал о свой засаленный фартук, мотнул головой в сторону проема.
— Вторая справа. Дверь не запирается. Задвижка сломалась еще при моем деде. Если госпожа опасается незваных гостей, — он не сдержался и мерзко хихикнул. — Можете подпереть поленом. Или позвать одного из своих блестящих дружков постоять на часах.
Лестница скрипела и прогибалась под ее весом, издавая такие жалобные звуки, словно молила о горящей головешке, которая разом прекратила бы ее многовековые мучения.
Второй этаж оказался еще более тесным, низким и душным, чем первый. Потолок из грубых, необработанных балок висел так низко, что приходилось пригибаться, чтобы не задеть головой. В воздухе витал сладковато-трупный, тошнотворный аромат — пахло пылью, затхлостью и чем-то еще, возможно, дохлыми мышами за обшивкой. Баронесса толкнула указанную дверь плечом. Та поддалась неохотно, задевая нижним краем за вздувшийся порог.
Комната была крошечной, каморкой, в которой с трудом помещалась узкая, скрипучая кровать с продавленным, колющимся соломенным тюфяком, кривой табурет и поросшая бархатным мхом печка в углу. На стене темнело обширное пятно плесени, расползавшееся причудливыми узорами, напоминавшими карту забытых королевств. Одно-единственное крохотное замутненное окно едва пропускало тусклый, угасающий свет уходящего дня, окрашивая все в серые, безнадежные тона.
Талагия швырнула свой дорожный мешок на табурет с таким видом, будто он был виноват во всех ее бедах, и окинула взором это царство упадка и забвения. Горькая, усталая усмешка тронула ее губы. Определенно, конюшня в замке покойного отца, Хоратия Корабела, была просторнее, чище и пахла куда приятнее. Да и компания там была веселее и честнее: лошади хотя бы не плевались под стол и не спорили, кто больше вмажет порченой бурды.
Снаружи, сквозь тонкие, щелястые стены, доносились приглушенные, но оттого не менее отталкивающие звуки продолжающегося соревнования: хриплый, победоносный возглас, глухой грохот опустошенного кувшина о стол, одобрительный, пьяный гул зрителей. Рейстандиус, казалось, был в своей стихии. Старый пес, вероятно, уже забыл и о сундуке, и о своей миссии, упиваясь азартом и ужасным вином.
Послышался еще один раскат грома, на этот раз ближе, низкий и зловещий, будто перекатывание огромного пустого бочонка по каменным плитам небес. Стекло в оконце жалобно задрожало. Ночь грома приближалась неумолимо, неся с собой не просто непогоду, а нечто большее, темное и неосознанное.
Не раздеваясь, лишь сняв тяжелый пояс с «Ненасытным» и положив его рядом на тюфяк так, чтобы эфес был под рукой, лю Ленх повалилась на кровать. Та жалобно заскрипела и прогнулась, приняв форму ее усталого тела. Пахло старым сеном, пылью и безысходностью.
Девушка прикрыла глаза, но покой не шел. Он был таким же недостижимым, как и чистая простыня в этом вертепе. Перед веками вставали навязчивые, яркие образы: свинцовые, холодные воды Серой Глотки, скользкая черная тень, шевельнувшаяся под мостом, насмешливые, заплывшие жиром глаза барона Траутия, непроницаемая поверхность зловещего сундука…
Посланница Триумвиров ворочалась на скрипучей кровати, пытаясь найти позу, в которой ее спина переставала бы напоминать о каждой кочке, ухабе и промоине на Северном тракте. Казалось, даже солома в тюфяке была набита не сеном, а осколками скал. Снаружи хлестал дождь, барабаня по соломенной кровле частыми, злыми струями, словно пытаясь пробить ее насквозь. Вода затекала в щели ставней, образуя на подоконнике лужицу, холодную и липкую, как слеза великана. Но даже яростный грохот ливня не мог заглушить доносившиеся снизу звуки победного — или похмельного — бесчинства.
Скрипнула лестница, застонав под чьей-то тяжелой поступью. Послышались заплетающиеся шаги, перемежающиеся отборным, многоэтажным гномьим сквернословием и хриплым, самодовольным бормотанием.
— …а я ему говорю: «Дитя мое, твоя проблема в отсутствии философского подхода! Пить надо с расстановкой, смакуя отчаяние и безысходность в каждом глотке!» А он… пф-ф… рухнул, как мешок с говяжьими костями. Жалкое зрелище. Нет, совсем народ обмельчал… таких, как триста лет назад, уже и не делают…
Голос Рейстандиуса был густым, маслянистым и невероятно гордым победой. Трап что-то ворчал в ответ, но его слова тонули в очередном оглушительном раскате грома, прокатившемся над самой крышей.
Воительница сжала веки, пытаясь отгородиться от этого балагана. Она лишь смутно надеялась, что к утру этот старый пропойца не скончается с похмелья, оставив их наедине с черным ящиком и всеми грозящими ему опасностями, о которых он, похоже, уже и не вспоминал.
Сон не шел. Холод, сырой и цепкий, пробирался под кожу, заставляя ее ежиться. Жалкая печка в углу комнаты давно потухла, не оставив после себя ничего, кроме запаха гари и горького сожаления о напрасно потраченных дровах.
Зябко кутаясь в тонкий плащ, баронесса поднялась с постели и подошла к замутненному, покрытому каплями стеклу. Она грубо протерла его рукавом, стирая влагу. За окном бушевала сплошная, непроглядная тьма, разрываемая внезапными, ослепительными вспышками молний. И в свете одной из них — ослепительной, на миг превратившей ночь в сиреневый, неестественный день — она их увидела.
Темные, расплывчатые, низкие силуэты, крадущиеся от черной линии леса к трактиру. Их было много. Десять? Двадцать? Полсотни? Они двигались бесшумно, пригибаясь к земле, используя каждый порыв ветра и каждый удар грома, чтобы скрыть шум своих шагов. Это был слаженный, отработанный танец смерти.
Вспышка осветила мокрую кожу натянутых капюшонов, полосы дождевой воды на темных, облегающих плащах, скупой, убийственный блеск стали в чьих-то руках. Ни кольчуги, ни лат — только тишина и скорость.
Сердце Талагии пропустило удар, замерло, а затем забилось чаще, тяжело и гулко, как барабан, отсчитывающий такт перед казнью. Она замерла, вглядываясь в кромешную тьму, пытаясь разглядеть детали, знаки, гербы. Но их не было. Только тени.
На чье добро нацелились эти ночные гости? На обозы купцов, что стояли на заднем дворе под жалким, протекающим навесом? Или… или на их сундук? Этот черный, безмолвный гроб, который притягивал к себе беду, как гнилое мясо — стервятников.
Конечно, купцы — лакомая, привычная добыча. Но нутро, обостренное годами жизни на острие ножа, кричало о другом. В этой забытой глуши, на самом краю Империи, появление отряда легионеров Магистерия с таинственным грузом не могло остаться незамеченным. Слухи в таких местах разносятся быстрее почтовых голубей.
Молния ударила где-то совсем близко, за спиной, осветив двор на мгновение ярче полудня. И в этом слепящем, белом свете Талагии показалось, что один из силуэтов — высокий, чуть выше других — повернул голову прямо к ее окну. Из-под капюшона не было видно лица, только ощущение пристального, холодного взгляда. У легата не осталось сомнений — ее уже заметили. И уже считают будущих мертвецов.
Лю Ленх резко отшатнулась от окна, вжимаясь в липкую, холодную стену. Рука сама потянулась к «Ненасытному», привычно обхватывая шершавую кожаную обмотку рукояти. Меч тонко, почти неслышно задрожал, отвечая на прикосновение, чуя близкую кровь и зовя ее.