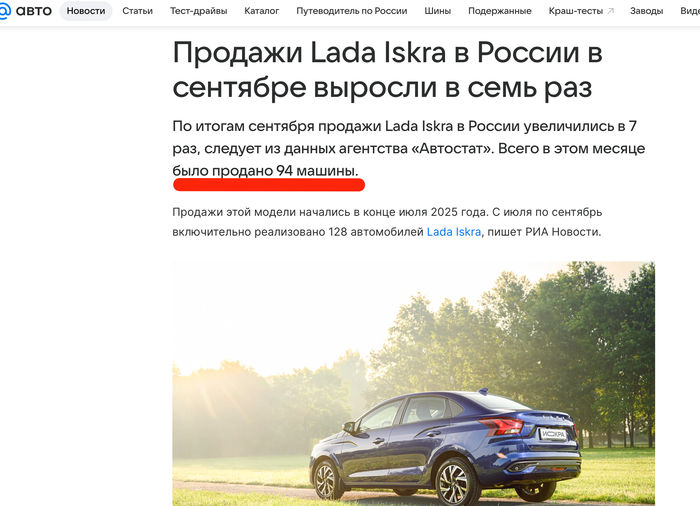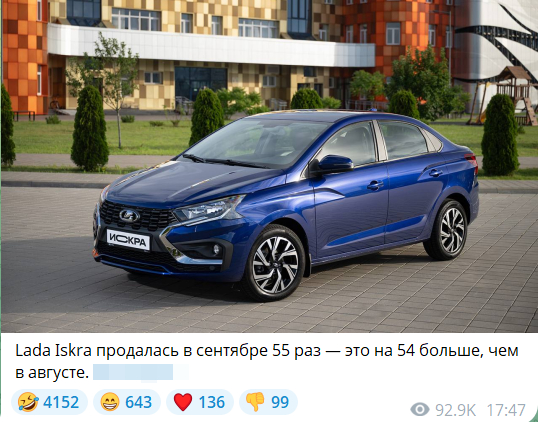АвтоВАЗ сейчас находится в глубоком кризисе. Концерн выпускает дорогие низкокачественные автомобили, которые покупают в основном из-за искусственно ограниченной конкуренции. Также компании регулярно нужны бюджетные вливания, чтобы держаться на плаву. При этом АвтоВАЗ пытается выбраться из ямы, прикладывая определённые усилия. Думать, что он единственный автопроизводитель, попавший в такую ситуацию, большое заблуждение. История автомобилестроения полна примеров, когда концерны оказывались на грани, и либо вылезали, либо исчезали. Я опишу несколько примеров удачного выхода из кризиса.
Начнём с Porsche. В начале 1990-х эта компания была в глубокой дыре. Продажи падали, убытки накапливались. В 1992–1993 годах концерн терял миллионы марок ежегодно из-за дорогого производства и слабого спроса. Покупатели считали Porsche слишком нишевой маркой, а конкуренты вроде BMW предлагали больше за меньшие деньги. В 1993 году на пост CEO пришёл Венделин Видекинг, инженер с репутацией жёсткого управленца. Он начал с радикальной чистки. Сократил модельный ряд, убрав всё, что не приносило прибыли, и оптимизировал производство. Видекинг пригласил японских консультантов, которые помогли внедрить систему бережливого производства, заимствованную у Toyota. Это позволило сократить издержки, уменьшить брак и ускорить сборку. Но настоящий прорыв случился, когда Porsche скооперировались с Volkswagen для разработки общей платформы (проект "Colorado"). На ней в 2002 году вышли Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg. Cayenne стал сенсацией: первый кроссовер от Porsche продавался очень хорошо, привлекая новую аудиторию. Это не только спасло компанию, но и сделало её одной из самых прибыльных в отрасли. К 2007 году Porsche даже пыталась поглотить Volkswagen, хотя эта авантюра и провалилась.
Hyundai в 1980-х и начале 1990-х тоже был в незавидном положении. Компания делала дешёвые машины, которые стоили копейки, но ржавели сразу на выходе с завода и ломались от первой ямы на дороге. В США их называли одноразовыми машинами. Концерн еле сводил концы с концами, завися от экспорта в другие страны. Всё изменилось, когда Hyundai начал реформы. В 1994 году они открыли технический центр в Германии, и наняли европейских инженеров и дизайнеров. Компания вложила миллиарды долларов в исследования, новые материалы и контроль качества. В 1998 году Hyundai сделали смелый ход, ввели десятилетнюю гарантию на моторы (100 000 миль) в США, что было неслыханно для бюджетного бренда. Это убедило покупателей, что корейцы готовы отвечать за свои машины. Параллельно они улучшали дизайн. Модели вроде Sonata и Elantra начали конкурировать с японскими и европейскими аналогами. К 2000-м репутация Hyundai выросла, продажи пошли вверх, и к 2020-м Hyundai-Kia Group закрепилась на четвёртом месте в мире по объёмам производства, обогнав многих конкурентов.
Volkswagen в 1990-х тоже был на грани катастрофы. Концерн страдал от раздутой бюрократии, устаревших моделей и высоких затрат на производство в Германии. В 1992 году VW зафиксировал убытки в 1,1 миллиарда марок, рекорд для компании. Спасение пришло с Фердинандом Пиехом, который стал CEO в 1993 году. Пиех, инженер и внук основателя Porsche, был одержим идеей сделать VW мировым лидером. Он начал с оптимизации: ввёл модульные платформы (предшественники MQB), которые позволили собирать разные модели на одной базе, снижая затраты. Пиех инвестировал в глобализацию, VW построил заводы в Китае, Бразилии, Восточной Европе, где труд был дешевле. Новые модели, такие как Golf IV и Passat B5, получили современный дизайн и лучшее качество, что вернуло доверие покупателей. Пиех также сделал ставку на премиум-бренды VW Group, вроде Audi. К 2012 году Volkswagen обогнал Toyota, став крупнейшим автопроизводителем мира.
BMW в 1959 году была в ещё более отчаянном положении. После войны компания выпускала либо микрокары, вроде Isetta, которые приносили копеечную прибыль, либо дорогие люксовые модели, такие как 501 и 502, которые страдали от низкого качества и не могли конкурировать с Mercedes-Benz. Долги достигли 200 миллионов марок, акции падали, и BMW была на грани поглощения Daimler-Benz. Спасение пришло от семьи Квандт. Герберт Квандт, представитель династии промышленников, выкупил контрольный пакет акций и вложился в реструктуризацию. BMW отказалась от крайностей, микрокаров и неудачного люкса, и сосредоточилась на среднем премиум сегменте. В 1961 году они выпустили BMW 1500, первую модель из "Новой серии", которая сочетала спортивный характер, современный дизайн и надёжность. Компания вложилась в инженерные разработки и качество сборки, что заложило основу для имиджа "машины для водителя". К 1970-м BMW стала символом премиум спорта, а семья Квандт до сих пор остаётся крупнейшим акционером.
Что объединяет эти истории? Все компании провели масштабные реформы: сокращали затраты, оптимизировали производство, инвестировали в качество и выводили на рынок модели, которые становились хитами. Они адаптировались к рынку, завоёвывая покупателей. АвтоВАЗ, похоже, тоже пытается следовать этим путём, но получается с трудом. Концерн действительно запустил реформы, чтобы выбраться из кризиса, который особенно обострился после ухода Renault в 2022 году из-за санкций. Производство упало на 20–30% к 2025 году, конкуренция с китайскими брендами усилилась, а зависимость от госсубсидий (миллиарды рублей ежегодно) осталась. В попытке сократить затраты АвтоВАЗ ввёл четырёхдневную рабочую неделю с сентября 2025 года по март 2026 года, но это вызвало снижение зарплат на 20% и недовольство работников, что привело к текучке кадров. Параллельно компания старается обновлять модельный ряд. Например, Lada Vesta, запущенная в 2015 году и обновлённая в 2022–2023 годах, позиционировалась как шаг в премиум сегмент для российского рынка. В 2024 году АвтоВАЗ представил Lada Iskra, компактную модель на платформе CMF-B от Renault, которая должна конкурировать с китайскими бюджетниками. Есть и планы по электромобилям. Lada e-Largus на базе китайской платформы тестируется с 2024 года, а запуск намечен на 2026-й. Партнёрства с китайскими производителями (например, FAW) после ухода Renault тоже стали частью стратегии, чтобы заимствовать технологии и платформы. Звучит неплохо, но есть огромная проблема, качество. Vesta и другие модели регулярно получают жалобы на коррозию, плохую сборку и ненадёжные компоненты. Вместо того чтобы сосредоточиться на одной-двух сильных моделях, АвтоВАЗ распыляется на неэффективное разнообразие: Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Iskra все на разных платформах, что увеличивает затраты на производство и разработку. Это противоречит логике успешных реформ, где Porsche или Volkswagen делали ставку на унификацию платформ. Зачем держать столько моделей, если половина из них морально устарела? Это как пытаться угодить всем, но в итоге не угодить никому.
Но главная загвоздка не в этом. АвтоВАЗ делает ставку не столько на внутренние реформы, сколько на лоббирование. Вместо того чтобы подстраиваться под рынок, он пытается подстроить рынок под себя. Утилизационный сбор, который в 2024–2025 годах вырос в разы, делает импортные машины дороже, защищая Lada от конкуренции. Закон о локализации такси, который с 2026 года потребует от автомобилей такси высокого уровня локализации, явно заточен под отечественные бренды. Это создаёт искусственную подушку безопасности, но не решает корневых проблем: низкой эффективности, устаревших технологий и слабого доверия покупателей. Пока Porsche, Hyundai, Volkswagen и BMW вылезали из кризиса за счёт качества и инноваций, АвтоВАЗ тянет одеяло на себя, ограничивая других.
Почему так происходит? Может, дело в жадном и недальновидном руководстве, может, это тяжёлое наследие плановой экономики, где главное не рынок, а протекция сверху. Но факт остаётся фактом: АвтоВАЗ это неэффективная компания, которая пытается вырасти не за счёт собственного развития, а за счёт занижения конкурентов.