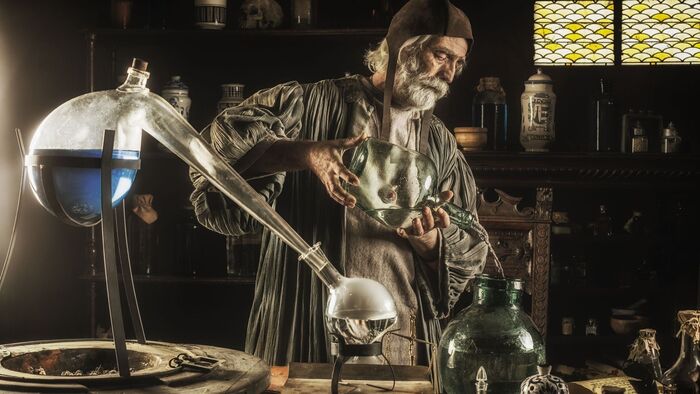За многие века до того, как „Старцы Горы“ обрабатывали своих доверчивых последователей в искусственных райских садах, а затем эти люди совершали ужасающие акты самоубийства ради бессмертия, которые уже носили совершенно явный характер, за сотни лет до этого, на расстоянии тысяч километров от Ирана в Древней Индии был предложен иной путь к вечной жизни. Если бы мы могли мысленно перенестись в Индию, скажем, в 700 год до нашей эры или в некоторые ее современные уголки, перед нами открылись бы следующие необычные зрелища: “В лесах, окружающих города и селения, появляются толпы странных обитателей; почти обнажённые, прикрытые лишь длинными космами спутанных волос, с исхудалыми лицами, — новые поселенцы джунглей могут показаться лесными духами, порождениями диковинных тропических чащ… Кто они? Уставшие от жизни старцы, ищущие покоя и уединения? Ведь в Индии считают, что человеку, если он создал семью, воспитал детей, принёс посильную помощь окружающим — лучше всего, удалившись от мира, предаться молитве и размышлениям. Но напрасно мы стали бы прибегать к этому объяснению. Здесь, в лесных хижинах, престарелые люди не только не преобладают, но их — меньшинство. Люди среднего возраста и молодежь — вот кто скрывается в пещерах и дебрях Индии. Мало того, с каждым днём всё новые и новые юноши приходят в тихие монашеские колонии. Для чего же эти полные энергии и сил существа избрали такую жизнь?… Повернуться спиной к тому, чем прекрасна жизнь даже самого незаметного земледельца, бросить города и, подобно орангутангам, скрываться в зарослях” [Мень А. У врат молчания. М., 2002. С. 63—64]. “Но телесное отрешение от мира ни в коем случае не ограничивалось этими упражнениями. Известно, с какой дикой жестокостью брахманские жрецы выполняли умерщвление плоти; … как связывание рук, отчего они отсыхали, смотрение на солнце до слепоты, неподвижное стояние между четырьмя огнями, стояние в продолжение целых часов на голове, опасное качание на головокружительной вышине, пост, при котором количество пищи прибавляется или убавляется соответственно возрастанию или уменьшению месяца и т.п. Все эти упражнения носят характер бездеятельного отречения или самоистязания; они являются практическими уродствами, обусловленными мрачной пассивностью, которая коренится в народном характере индусов и находит себе теоретическое осуществление в образе мыслей их философии” [Иллюстрированная история религий. В 2 т. // Под ред. Д.П. Шантепи де ля Соссей. М., 1992. Т. 2. С. 61].
Что же представляло собой это учение, тропа, которая побуждала и продолжает побуждать людей отдаляться от повседневности и оказала влияние на формирование характера целого народа? Истоки этого пути уводят нас к уникальному сборнику текстов Упанишад (в переводе сидеть рядом, то есть быть у ног наставника), созданных в VIII веке до нашей эры — начале нашей эры. Упанишады составляли собрание философских трудов Древней Индии, в которых раскрывалась мудрость жрецов-брахманов о смысле существования, о сокровенном значении отдельных понятий и категорий, о связи человека с мирозданием, о роли магии и символике ритуалов и жертвоприношений [Васильев. Указ. соч. С. 192—193]. Какие же основные положения содержала философия Упанишад, претендующая на осмысление мира в рамках единой системы [Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М.: Мысль, 1979. С. 52]. Согласно этой философии, основу мироздания составляет некая субстанция Атман. Атман “бесконечен, вечен и неизменяем, не имеет никаких определяющие его качеств, стоит выше всякого определения и непостижим… Он не говорит словами, не думает мыслями, не смотрит глазами, не слышит ушами… Это удалившее от себя всякое зло, никогда не стареющее и не умирающее, никогда не чувствующее ни печали, ни голода, ни жажды — его-то и надо стремиться познать” [Шантепи де ля Соссей. Указ. соч. Т. 2. С. 47]. Ключевая идея Упанишад заключается в достижении гармонии между Атманом — мировой душой вселенной и душой отдельного человека [Там же. С. 48]. “Для достижения этого состояния надо до такой степени погрузиться в созерцание, чтобы все сознание слилось в одну идею. Состояние это есть полнейший покой, не нарушаемый ничем из того, к чему в этой жизни стремится дух… Стремление достичь высшего состояния тем более желательно, что земное существование само по себе полно страдания. Как только этот дух, рождаясь, принимает телесность, то он соединяется со страданием… смерть, являющаяся освободительницей из этого состояния, изображается обыкновенно как радостное чувство достижения абсолюта и бессмертия” [Там же. С. 49]. Понятие Атмана тесно связано с понятием Брахмана — истины, основы мира, создавшей богов и людей. Брахман представляет собой некую бесформенную субстанцию, силу, сверхсознание [Мень. Указ. соч. С. 81—82]. Сливаясь с Атманом, человек одновременно открывает в себе и Брахмана. “Задача человека заключается в стремлении познать…: „Я есмь Брахма!“ … Это познание и есть освобождение и спасение; кто познал это, тот преодолел вторичную смерть — смерть над ним не властна, он достигает полного возврата жизни и становится одним из этих божеств. „Тот, кто знает, что он есть Брахман, есть всё: и сами боги не могут ему препятствовать“” [Шантепи де ля Соссей. Указ. соч. Т. 2. С. 48]. Как же возникла эта, на первый взгляд, странная и запутанная философия, и как эти постулаты о неведомых Абсолютах смогли покорить умы миллионов, заставляя их отказываться от радостей бытия и уподобляя жизнь летаргическому сну? Уйдя еще в глубокой древности от веры в Истинного Бога, народы Древней Индии погрузились в примитивное идолопоклонство. Сами идолы внушали суеверный ужас, что усиливалось колдунами, произносящими оккультные заклинания. Вся эта религия опиралась на волшебство, магию и связь с загробным миром [Шантепи де ля Соссей. Указ. соч. С. 37—38]. Другой неотъемлемой частью были жертвоприношения [Там же. С. 31—33]. Эти ритуалы отличались необычным характером. “Вознося жертву на алтарь, человек обращался к божеству со словами: „Если ты дашь мне — я дам тебе, если ты наградишь меня — я награжу тебя“, и таким образом, он заключал „контракт“ с потусторонними силами” [Мень. Указ. соч. С. 65]. Эта ведийская вера с ее примитивным идолопоклонством, оккультизмом и ритуалами не могла дать ответы на вопросы ищущих умов: в чем суть существования? Зачем человек появился на земле? Что ждет за гранью смерти? Как обрести счастье и вечность? И здесь дьявол, осознав, что удерживать народы Индии на прежнем ложном пути к бессмертию, основанном на примитивном идолопоклонстве и магии, становится невозможным, предложил взамен путь, на первый взгляд возвышенный. Этот путь льстил человеческой гордыне, присущей каждому после грехопадения. Он отводил людей от идеи личного Бога, превращая Его в некий Абсолют, космический Разум, лишенный души, но обладающий неограниченной мощью. Он призывал человека слиться с этой сверхсилой или, точнее, обнаружить ее в себе. “Человек начал исследовать тайну с самого себя и, найдя в собственном духе глубинное измерение, соединяющее его с Высшим, принял это за тождество. Восходя по ступеням созерцания, захваченный открывшимся горизонтом, он в исступлении восклицал: „Тат твам аси!“ Ты есть Оно! В твоей груди сокрыто вечное „Я“ мира; лишь бренное тело и иллюзии чувств ограничили в тебе силу Брахмана” [Чхандогья VI, 8, 7; III, 17, 6]. “Брахман в солнце и в человеке — един. Нужно только до конца осознать, что все есть Божество, и тогда ты познаешь, что ты это — Оно. … Вхождение в Бездну есть по существу не слияние с Брахманом, а открытие Его в себе… Он — величайший покой и тишина миров. Он — тончайший из тонкого, Он — вечный. И ты есть Он, и Он есть ты… Познавший свое единство с Брахманом преисполняется чувством … и не колеблясь утверждает: „Из меня возникает вселенная, и только мною поддерживается она; во мне она переходит. Это — безвременный Брахман, и это есть я сам. Я меньше самого малого, и я — огромен. Я — сверкающая красками вселенная, я — древний, я — дух, я — владыка богов, я драгоценен и блажен“ [Кайвалия, 19—20]. Пусть мир катит свои призрачные волны; как сладостно лелеять в себе сознание, что ты слит с непреходящим, как отрадно погружаться в мысль о том, что все минует и исчезает! Есть заманчивая прелесть в этом мироотрицающем наслаждении, чудесно оберегает оно душу от страхов и треволнений, ставя её выше всех мимолётных скорбей земли!” [Мень. Указ. соч. С. 90—91]. Здесь зарождается основа концепции сверхчеловека, которая в разные эпохи и у разных народов приобретала различные формы. Эта идея проявится и в XX веке, например, в фашизме, провозглашавшем создание сверхлюдей, и в коммунизме, интерпретирующем это с иных позиций. Ее устойчивость и популярность объясняются тем, что она возвещает веру в безграничные возможности человека, способного достичь божественного статуса. Такая идея была привлекательна как для богатых и знатных, так и для бедняков, не имеющих в жизни ничего, но обретающих все через полный аскетизм. “Аскеза способна прервать кармическую связь и открыть душе дорогу к Бессмертию. „Тот, кто имеет желания и думает о них, вновь рождается здесь и там из-за желаний. Но все желания того, у кого совершенный атман и чьё желание исполнилось, исчезают в этом мире“ [Мундака III, 2, 2]. Отрешенному чужды не только обряды, но и все, чем живут люди: ненависть и любовь, добро и зло. Он бесконечно далёк от слабых и невежественных, он — сверхчеловек” [Мень. Указ. соч. С. 95]. Этот зловещий путь к вечности, провозглашенный Упанишад, нашел отражение в знаменитой Йоге (в переводе прикладывать усилия), популярной и в наши дни. Откуда берут начало корни этого философского направления? “Еще в III тысячелетии до н.э. на индийских печатях изображались фигуры, сидящие в йогической позе „лотоса“. Это доказывает, что йога зародилась в доарийские времена среди аборигенов страны. Вполне вероятно, что архаическая практика экстаза, известная у многих первобытных народов, была предшественницей йоги. Ведь именно в шаманизме каменного века возникли первые попытки „взять Небо штурмом“, овладеть таинственными силами. Люди, которые умели приводить себя в состояние транса, почитались обладателями „маны“, космической энергии, превращавшей их во всесильных магов… у многих магов-заклинателей обнаруживались подлинные оккультные способности, превосходившие обычный человеческий уровень. Эти способности до сих пор наблюдают у жителей тропической Африки, но у индийцев они проявлялись с еще большей силой. В Индостане, например, сохранились целые племена, от природы обладающие парапсихическими свойствами. Быть может, подобное явление связано с тем, что йогическая практика была известна там с незапамятных дней… мистика шаманизма исходила из веры в возможность для человека собственными силами „прорваться“ в иные миры и завоевать себе могущество. Нас не должно удивлять, что такое глубокое учение, как йога, обязано своим возникновением первобытным шаманам. Ведь из этого корня выросли и многие другие духовные течения. Напомним, к примеру, что философия Пифагора была подготовлена экстатическим культом Диониса, а профетизм возник на почве древнейшей мистики семитов” [Светлов. На пороге Нового Завета. Брюссель, 1983. С. 39—40]. Катха-упанишада описывает йогу как способ укрощения чувств, разума и, в конечном итоге, самой мысли. “Йога — бескомпромиссна и требует всего человека, ждёт от него полной отдачи” [Светлов. Указ. соч. С. 48]. То есть человек должен через особые практики отдаться во власть демонических сил, отрешаясь от собственной личности и сближаясь с ними. Борьба за человеческий разум, которую дьявол ведет уже 6000 лет, в йоге выражена весьма откровенно. “Согласно Мокша-Дхарме, йога определяется как путь к спасению через самообожествление” [Светлов Э. Указ. соч. С. 45]. “Упражнение йоги состояло в самогипнотизировании, которое совершалось по известным правилам. Состояние экстаза, во время которого человек чувствовал себя отождествлённым с высочайшим, достигалось посредством неподвижного сидения на корточках, смотрения в одну точку, задерживания дыхания и постоянного держания в уме абстрактных понятий и многозначительных слогов, как, например, знаменитого слова Ом, служащего мистической формулой для Брахмы. Таковы были… способы, которыми думали достичь цели религиозной философии — освободительного угасания сознания. Йогин, как назывался тот, кто подвергал себя такому экстазу, считал себя стоящим выше всех мирских ограничений и владеющим божеским всемогуществом” [Шантепи де ля Соссей. Указ. соч. С. 61]. Огромное число людей не выдерживало этих практик и сходило с ума, другие же превращались в странных существ, полностью оторванных от реальности. Принципы йоги легли в основу эзотерической медитации, а труды Е. Блаватской, К. Кастанеды, Рерихов, Д. Андреева во многом опираются на эту философию, как и современные теории о Космическом разуме, путешествиях сознания и тому подобное. Прилавки магазинов переполнены подобной литературой, претендующей на научные изыскания, якобы раскрывающие перед человеком дороги к счастью и вечности через медитативные практики. Но этот путь “к бессмертию” привел к катастрофе почти весь индийский народ, угодивший в многовековую кабалу кастовой системы, оккультизма, сексуальных извращений; фашизму, чьи основы черпали в трудах Блаватской и других эзотериков; секте Аум Синрикё, чей лидер Асахара следовал этим принципам; зловещим восточным школам боевых искусств; сатанизму, современные основатели которого изучали индийскую “мудрость”; распаду семей и психическим расстройствам [Опарин А.А. У Разбитых водоёмов. Харьков: Факт, 2002; Опарин А.А. Религии мира и Библия. Харьков: Факт, 2001]. Несмотря на эту кровавую историю, путь к бессмертию продолжает привлекать множество людей, особенно молодежь и интеллигенцию, и, к сожалению, проник даже в некоторые христианские конфессии.