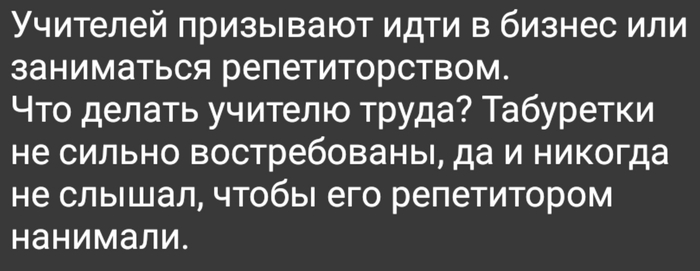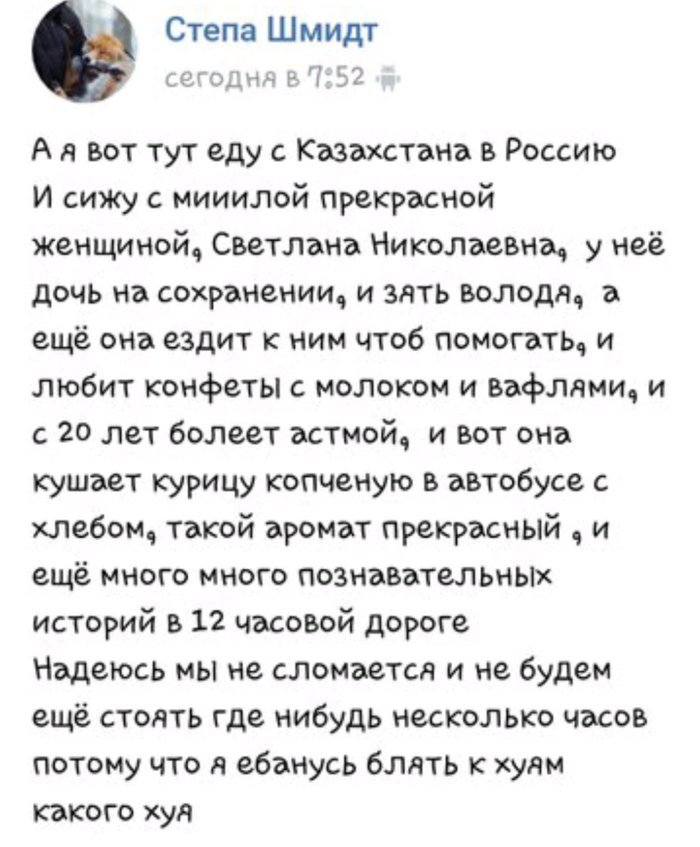Аида сказала, что древние книги стоят всех сокровищ мира, но сокровища ей были не нужны. А я шёл вместе с ней, потому что ничего дороже и ярче Аиды в моей пропылённой базарами жизни не было и никогда не будет.
Мы падали и хохотали, дурачились, брызгали друг в друга водой, пиная море босыми ногами, а закат дрожал над волнами испуганным лисьим хвостом. Становилось зябко, и я отдал Аиде куртку, задубевшую от пота и солёных брызг.
— Гляди! — она махнула куда-то вдоль берега.
Прыгая по огромным валунам (я то и дело подавал руку Аиде), мы увидели россыпь рыбальских хижин, а посреди неё — свежесрубленную виселицу. Когда мы спустились с камней и подошли к ней, то узрели двоих повешенных: у одного было лицо речного налима, другой был слеплен из чешуи и глаз, точно сетка, набитая рыбой.
Я знал, что нельзя отказываться, если рыбали зовут путников на ночлег. А нас уже ждали. Пожилой рыбаль в соломенной шляпе, укрывавшей от солнца обветренное смуглое лицо, поманил нас к себе. Когда мы подошли, дрожа от тревоги и холода, он молча отвёл меня и Аиду к себе в хижину.
— Эти двое, — выдохнул он сипло, точно ветер прогудел в ставнях, — они назвались паломниками. Их много стало теперь.
Он усадил нас с Аидой за стол, налил рюмку анисовой водки, положил в чашки вареного гороха, но не дал ложек. Ткнул себя пальцем в грудь и назвался:
— Тур, — представился я, склонив голову. — Аида.
Мы выпили анисовой, старик указал на чашку заскорузлым пальцем. Прежде чем я успел попросить ложку, в хижину вошёл новый гость. Сухопарый мужчина, тихий и вислоусый, суетился у очага, что-то искал. Потом уселся к столу с маленькой чашечкой вроде тех, в которые кладут варенье.
Он отсыпал из нашей чашки в свою совсем немного вареного гороха и несколько раз глубоко вздохнул. Потом передавил этот горох большим пальцем в кашу прямо в миске и стал зачёрпывать и закидывать себе в рот. Зеленоватая эта каша висела ошмётками на его жидких усах, мне стало неприятно смотреть.
А старый Борхи заговорил:
— Они заночевали у меня дома. Я постелил им у дверей, сам лёг на свою постель. Ночью проснулся от безумной вони — весь дом провонял протухшей рыбой. Я встал и подошёл к двери, посветил на этих двоих фонариком. А у них пена на губах, и шлепают они ртом, как окуни на воздухе.
— Борхи позвал нас с верёвками, — вислоусый мелко закивал, ткнул пальцем в виселицу на улице. — Пришлось наскоро возводить эту дуру. Пусть их засланцы издалека видят, что мы делаем с рыбами. Обычных рыб мы либо едим, либо отпускаем в воду. Но тех, кто приходит обманывать нас, мы убиваем здесь, вывешивая их на воздухе.
— Много стало паломников, — покачал головой Борхи. — И много воров. Вы из каких будете?
Пронзительный взгляд старика перетекал с меня на Аиду и обратно. Она откашлялась и ровным голосом сказала:
— Мы идём в монастырь. Но мы не паломники. Мы хотим принести присягу.
— Да. Безмолвие и древние книги, — кивнул я.
Борхи обвел рукой полукруг у правой половины лица и поднял большой палец ко лбу — священный знак, означавший крюк. Потом старик кивнул нам и промолвил, указав на вислоусого:
— Геддар будет дежурить ночью. Мы положим вас спать на то же место. Если обманете, вам висеть рядом с ними.
— Мы не обманщики, дорогой Борхи, — сказал я. — Нам нужно только пережить ночь.
— И нам тоже, — пробормотал хозяин. — И нам.
Отчего-то мне стало неспокойно. Непрошенная мысль юркнула под край сознания: мысль, что в этой деревне ещё остались рыбные люди.
Сумерки накатывали на берег, точно приливные волны. Скоро ночной мрак прорезали звёзды. Борхи кинул у входа жестковатый соломенный тюфяк один на двоих, и мы с Аидой прижались друг к другу, укрывшись покрывалом. На деревню опустилась промозглая влажная ночь, ветер посвистывал в щелях хижин.
Мне казалось, что я не спал. Слушал ветер, смотрел на блеск звёзд в соломенной крыше, принюхивался — но мой нос не улавливал ничего, кроме запаха солоноватых водорослей, какими пахнет всегда морской берег. Тревога сдавила грудь, а сквозь переплетения соломы блестела ночь — южная искристая ночь, серебряными глазами глядящая мне в душу; и эти глаза сверкали, как монеты, щекотали сердце, будто рыбьим хвостом. Влажный ночной воздух накатывал волнами, ритмично, как прибой, и подо мной качалась толща воды, пока что-то не потянуло меня вверх, прочь из воды, в сухой и колючий воздух.
А потом огромный крюк из холодной солёной стали вспорол мне нёбо и потянул наверх.
— Серебряные глаза не лгут! — прочавкали чьи-то слова в моих ушах.
Я дёрнулся и проснулся. В хижине было тихо, луна подглядывала за нами через крышу, моя любимая воровка лежала рядом.
Аида не спала, только ёрзала и ворочалась, шелестя соломой. Я же почувствовал, что мне нужно до ветру. Осторожно поднялся, зашагал босиком по песку, кивнул сидящему у крыльца Геддару, направился к отхожему месту.
Вскоре я мягко и медленно ступал по пляжу обратно, думая, как бы потише на крыльце стряхнуть со ступней песок. Но кое-что заставило меня забыть об этой ерунде. Что-то не так было в облике рыбальской деревни. Я присмотрелся и понял.
Виселица была пуста. Трупы исчезли. Зато на ступенях соседнего дома лежало тело Геддара. Я подбежал к нему и склонился над мёртвым лицом, глядящим в небо помутневшими глазами.
Жидковатые чёрные усы спеклись в кровавую корку с рваными лоскутами губ и осколками зубов. Челюсть обмякла кожаным мешком, будто раздробленная кувалдой. Но как? За те пару минут, что меня не было…
Я окликнул Борхи. В хижине старика затеплился огонёк фонаря, через минуту на крыльцо выбрался сам хозяин, вслед за ним — встрёпанная Аида. Я по-прежнему смотрел в изуродованное лицо Геддара. В месиве рта мне удалось разглядеть то, что сперва я не смог заметить: у него был вырван язык.
Чёрная кровь мягко текла из горла черноусого, струясь по шее и щекам. Рыхлое тёмно-красное мясо на месте языка выглядело словно дыра, словно прогоревший уголь, вложенный в рот бедному рыбалю.
— Рыбы исчезли, — коротко бросил я подбежавшему Борхи.
— Плохо. Геддар не выдержал.
— Чего не выдержал? — сипло спросила Аида. Её била дрожь, от промозглого ли прибрежного ветра или от ужаса — я не мог понять.
— Он потерял свой крюк. Теперь вам здесь опасно. Геддар вас охранял, но не справился. Вам больше нельзя спать.
— Значит, и не будете, — отрезал хозяин. — Геддара нужно закопать. Идём.
Он достал лопату из хижины и увёл нас за пределы рыбальей деревни. Я тащил тело Геддара, стремительно остывающее в предрассветном холоде. Следующий час мы с Аидой попеременно копали глубокую узкую яму в мокром песке.
Борхи опустил труп головой вниз, чтобы пятки были ниже уровня земли. Треснуло что-то в шее Геддара, когда тело сползло по краю ямы, точно брошенная кукла. Покатились мелкие комья земли, залепив окровавленное лицо.
— Иначе они будут ночью ходить по деревне и снимать с виселиц трупы. А без рыбьих трупов рыбали забудут, зачем они нужны.
Это были единственные слова, которые Борхи произнёс за остаток ночи. Сколько я ни спрашивал, что произошло с Геддаром и почему он «сломался», старик только хмурился и качал головой. Я кричал, размахивал руками и один раз даже заплакал. Старик молча закапывал яму.
Аида обняла меня, положив голову мне на плечо; печально звякнула её юбка. Я вздрогнул: мне почудилось, что это звенят крючки в снастях. Но проведя по её бедру, ощутив пальцами крупную чешую монет, я остыл. Значит, пусть их. Пусть взойдёт солнце, а наутро мы доберёмся до монастыря и забудем этот рыбалий берег и его мерзкие загадки и жуткую смерть вислоусого.
Яму мы закопали, когда солнце уже взошло. Молча мы возвращались в деревню. Но перед домом Борхи нас встретила толпа. У них не было ни вил, ни ножей — только угрюмые лица и мертвенная неподвижность.
— Они идут в монастырь, — сказал он.
— Мы идём в монастырь, — подтвердил я.
Поглядел на Аиду, но она лишь опустила взгляд и нерешительно кивнула.
Из толпы вышла дородная женщина с толстой косой линяло-рыжего цвета, выгоревшей на солнце. Женщина заговорила — и голос у неё был густой и скользкий, точно жир:
— Серебряные глаза говорят, что по лагерю ходят рыбы.
Борхи тёр подбородок грубой ладонью. Ветер на рассвете умолк, в деревне стало тихо. Я слышал, как шуршит задубевшая кожа об щетину. Наконец, хозяин повернулся к нам. Усталость плескалась в его глазах, когда он спросил:
— Мы идём в монастырь, — тупо ответил я, растерявшись.
— Рыбы, — выдохнул Борхи. — Зачем. Здесь. Рыбы.
— Серебряные глаза не лгут! — выплюнула женщина. Остальные рыбали закивали, загудели. — Никогда!
Мы с Аидой сделали шаг назад. В плечо мне вцепилась рука Борхи, оцарапали кожу длинные ногти. «Какая-то ерунда происходит, недоразумение, — думал я. — Это невозможно… безумие, нам нужно в монастырь, чтобы украсть их книги, а местные идиоты-рыбали только нам мешают».
— Но ведь трупы исчезли! — воскликнула Аида, ткнув пальцем в сторону виселицы.
Рыбали синхронно повернули головы, потом вновь уставились на нас. Они, казалось, забыли о висевших днём рыбьих трупах.
— Хватит притворяться. Вы не те, за кого себя выдаёте, — мягко, но непреклонно произнёс Борхи.
Аида глянула на него прямо, яростно. В её глазах гулял холодный ветер — тот самый пробирающий до костей ночной сквозняк. Так странно и страшно было видеть этот тёмный страшный ветер в рассветных лучах на тихом берегу. Так восхищён я был взглядом этих прозрачных глаз, что замер и онемел, ожидая её ответа.
— Мы пришли к вам на ночлег, — отчеканила Аида. — Вы выставили сторожа, потому что нам не доверяли. У вас здесь свои проблемы, и мы не лезем в них. Нам нужно было только переждать эту ночь. Мы её переждали. Теперь мы идём в монастырь.
Наконец-то. Вот так. Идём и оставляем позади этих склочных и безумных рыбалей с их виселицами, усами, варёным горохом, вырванными языками и странными могилами…
Борхи обернулся ко мне. Я поднял на него глаза с усилием — бессонная ночь, рытьё ямы, нервная лихорадка последних суток — всё это утомило меня; ничего тяжелее этого разговора со мной не случалось ещё в жизни, а в мозгу колотилась лишь одна мысль: «Надо идти в монастырь».
А ветер затих, и набирающее силу солнце сушило и выжаривало последнюю воду из влажного песка. Сквозь розоватое марево смотрел я на тёмное лицо старика. Оно сморщилось печальной гримасой, губы его шевельнулись.
— Кто мог быть рядом с Геддаром, когда ты уходил? Кто ещё мог оказаться предателем? Разве ты знаешь всех, с кем провёл эту ночь?
— Я знаю всех, — нетвёрдо ответил я.
— Ты видел, чтобы кто-то не спал, когда ты выходил на улицу?
Но меня подвели глаза, мои предательские глупые глаза, сами стрельнувшие в сторону Аиды, красивой и злой воровки, как-то связанной с тем, что я собрался украсть все тайны Вселенной.
Она не заметила моего взгляда, но заметил Борхи.
— Я так и думал, — кивнул он, шагнув к ней.
В следующую секунду железные пальцы старого рыбаля сомкнулись на её тонких запястьях. От толпы отделилось несколько мужчин — и спустя пару мгновений брыкающиеся ноги Аиды завязли в их крепкой хватке.
Она кричала — надрывно, надтреснуто, хрипло. Четверо мужчин несли её к виселице. Я глядел, как мальчик лет двенадцати перекидывает верёвку через балку и вяжет петлю с серьёзным, взрослым видом. На песок беззвучно упала сорвавшаяся с девичьей ноги сандалия.
Мальчик хмурился и проверял узлы, пока мужчины держали девушку. Она выла и плакала, я смотрел на неё и ждал, когда всё закончится. Мне нужно было идти в монастырь.
Усталость сковала меня каменной хваткой. Глаза иссушило утренним солнцем и блеском океана, кожу пропитала соль. Хотелось лечь на тёплом песке и спать, пока рыбали ходят вокруг и делают свои рыбальские дела. Хотелось лечь на воду и уплыть, рассыпавшись косяком трески. Хотелось вырвать язык старому Борхи и закопать его головой вниз.
Много чего хотелось мне в этот полный усталости миг, но нужно было идти в монастырь.
Впрочем, стоило мне развернуться, как толпа рыбалей сдвинулась передо мной в непрошибаемую стену. И баба с дряблыми щеками сказала жирным голосом:
— Иди к ним. Сделай своё дело — и мы отпустим тебя.
Я постоял, тупо глядя на неё, несколько мгновений. Потом медленная мысль доплыла до моей головы, и голова моя кивнула этой женщине.
Ноги вязли в песке, пока я брёл к виселице, продавливая своё тонкое и угловатое тело сквозь душный мокрый воздух рыбальего берега. Аида уже не кричала и не брыкалась. Лишь дышала с присвистом, беззвучно хлопая губами.
— Сделай своё дело, — сказал мне мальчик, протягивая мне конец верёвки.
Усталость отхлынула с еле слышным шорохом, скатившись по телу, как по песку. Руки налились силой.
Это ненадолго. Это задержит меня на несколько минут, чтобы я мог пойти в монастырь.
Я потянул. Напряглись плечи, заныла спина. Верёвка скользнула по балке. Аида, всхрипнув, приподнялась над землёй. Задёргала ногами, схватилась пальцами за петлю, царапая шею до крови.
Выпученные глаза Аиды закатились, обнажив покрасневшие бельма. Лицо налилось краской, сначала розовой, потом багровой. Ещё спустя минуту в распухшей лиловой морде, висящей в петле, не осталось ничего от тонкой смуглой красоты, которой эта женщина меня когда-то пленяла.
Ну конечно. Вот твоё истинное лицо, вот же ты настоящая — одутловатая пучеглазая рожа, синяя и с вываленным изо рта потемневшим языком. И как ты могла меня дурачить этой маской — этой личиной молодой цыганки с острыми скулами и вишнёвыми губами?
Вот ты настоящая. Обвисли раздутые губы, будто у рыбы, поднятой с глубины. Помутневшие глаза не помещаются в глазницах, пальцы рук растопырены как плавники. Ты больше не дёргаешься, обманщица и воровка. Ты, мошенница, никого больше не проведёшь.
И стоило поднять тебя повыше в воздух, и ты задёргалась в агонии, потеряла голос. Ведь настоящие рыбы не дышат воздухом и не умеют говорить, вот поэтому ты замолчала и задохнулась. Теперь твоё мёртвое рыбье тело испускает последнюю воду, она капает с ноги, потерявшей сандалию. Скоро синюшная кожа слезет и обнажит чешую.
Едва-едва смог я дрожащими от напряжения пальцами привязать верёвку к столбу. Потом, пошатываясь, отпрянул от виселицы. С минуту я любовался, как мерно качается тело, сцеживая на песок последнюю воду и требуху.
Но ведь рыбы не мечут икру на воздухе…
Подумав об этом, я упал без сил на песок. Пока смыкались веки, успел увидеть, как кивают мне рыбали, как расходятся по домам. Как старый Борхи осеняет себя знамением крюка.
Проснулся я ночью. Такой же свистящей от влажного ветра трепетной ночью, как и предыдущая. Колючий песок царапал щеку и лоб, рука затекла, в ноздри набилась рыбная вонь.
Я поднялся и увидел, что на берег опять спустилась ночь и деревня снова уснула. На виселице болталось тело Аиды. Солома на крышах хижин трепыхалась и шелестела. Серебряноглазая луна озаряла берег, рассыпая блики в следах на песке. Меня тянуло к воде. Тянуло замереть, уйдя на глубину, застыть и не моргать. Обрести немоту и в святой тишине слушать знаки вселенной
Шаг. Другой. Третий. Чем ближе становился берег, тем легче дышалось, тем меньше забивал ноздри запах водорослей, тем чётче становилась выходящая мне навстречу из волн фигура в белом облачении. Когда я встал у самой кромки воды и море облизало мои ступни, человек с серебряными глазами сказал:
— Твоя присяга принята. Ты самая скользкая рыба на этом берегу.
Он осенил меня знамением крюка и взял за руку. Он повёл меня зачем-то обратно к виселице, откуда я только что пришёл. Серебряноглазый говорил тихо, и слова его каплями падали в мой разум, ставший прозрачным и прохладным, как никогда раньше.
— Монастырь зовёт. Все, кто готов за ним следовать, чуют его зов и идут — как рыбы, плывущие против течения на нерест. Но как самые сильные доплывают до истока родной реки, так и самые ловкие могут миновать рыбалей.
— Рыбали… Они ведь не просто треску здесь ловят? — спросил я.
— Нет. Они ловят вас, — усмехнулся серебряноглазый. — В монастыре обитают лишь лучшие из рыб. В его книгах — мудрость океана из времён, когда даже обезьян ещё не было на суше. Лишь лучшие могут пройти в монастырь, чтобы учиться и познать эти тайны. Когда монахов станет достаточно, они выйдут из этих стен и пойдут по городам, и океан снова вступит в свои права. Все они вышли из воды — и в воду возвратятся в конце веков.
Я слушал гипнотическое монотонное бормотание серебряноглазого и переставал моргать. Брызги прибоя уже не долетали до моего лица, но я чувствовал оседающую на коже солёную влагу.
— Ты помнишь, как убивал Геддара?
У всех рыбалей есть зашитый в нёбо стальной крюк. Если вырвать его, душа рыбаля покидает тело, разрывая рот. «Конечно, рыбы же немые, поэтому и язык, — подумал я. — А разворотило ему лицо, потому что, когда рыбу с крючка снимаешь, у неё все губы рвутся, так же вот и у этих».
Тогда, прошлой ночью, вырвав этот крюк, я вытер пальцы о песок, снял тела с виселиц, и ушёл обратно к отхожему месту. Там моя рыбья суть снова нырнула в глубину, и память об этом всплеске изгладилась. Геддар не справился, не уберёг деревню от рыб. Он верил нам, как и верил до поры старый Борхи. Поэтому был с позором похоронен вниз головой.
Серебряноглазый подвёл меня к виселице. Поднялся ветер. Скрипнула иссохшая балка, закачалось тело. На нём не было никакой чешуи.
— На присяге мы приносим в жертву чью-то жизнь. Ты ведь сам привёл сюда эту девушку. Сам повесил её здесь. Но ты же сам и дал ей вторую жизнь.
Обрывки воспоминаний о застарелом тепле, о сбитых простынях и влажной мякоти, звенящей под теми монетами, засверкали в прозрачном мозгу. Я опустил глаза и пригляделся, вспомнив, как её тело отдавало последнюю воду и требуху.
«Не мечут икру на воздухе…» — вновь промелькнуло в голове.
— Ты принёс нам две жизни, — сказал Серебряноглазый, осторожно поднимая с песка под ногами повешенной кровяной сгусток выкидыша. — Это великая жертва, и твоя присяга будет выбита на монастырских камнях.
Он бережно выставил свою ношу перед собой и понёс обратно к берегу. Я шагал за ним. В моём остывающем сердце воздвигались гранитные стены молчания. Холодный камень монастыря стал подобен холодному студню моих глаз, теперь таких же серебряных. Глаз, которые никогда не лгут.
Чешуйчатые руки опустили скользкую кровавую массу в воду. Масса вдруг встрепенулась, что-то гибкое и блестящее скользнуло по ладоням Серебряноглазого и понеслось прочь от рыбальей деревни, рассекая водную гладь. Когда-нибудь оно вернётся и пройдёт тот же путь, что и я.
Я улыбнулся, глядя на дрожащую дорожку луны и на вздымающуюся спину моря. Его тайны не дано знать ни рыбалям, ни ворам, ни паломникам. Сколько крюков ни забрасывай в его глубины, оно проглотит их все — а потом вернёт своё господство. Когда мы выйдем из монастыря и пойдём по берегам этого мира.
Луна сыпала белыми искрами на скользкий песок. Чесалась прорезавшаяся чешуя. На меня смотрели рыбы. Их глаза блистали серебром из-под воды. Они не умеют говорить. Поэтому не врут.
Наконец, я развернулся, и мы побрели сквозь деревню к тропинке, ведущей на утёс. Я, наконец, отправился за своими тайнами.