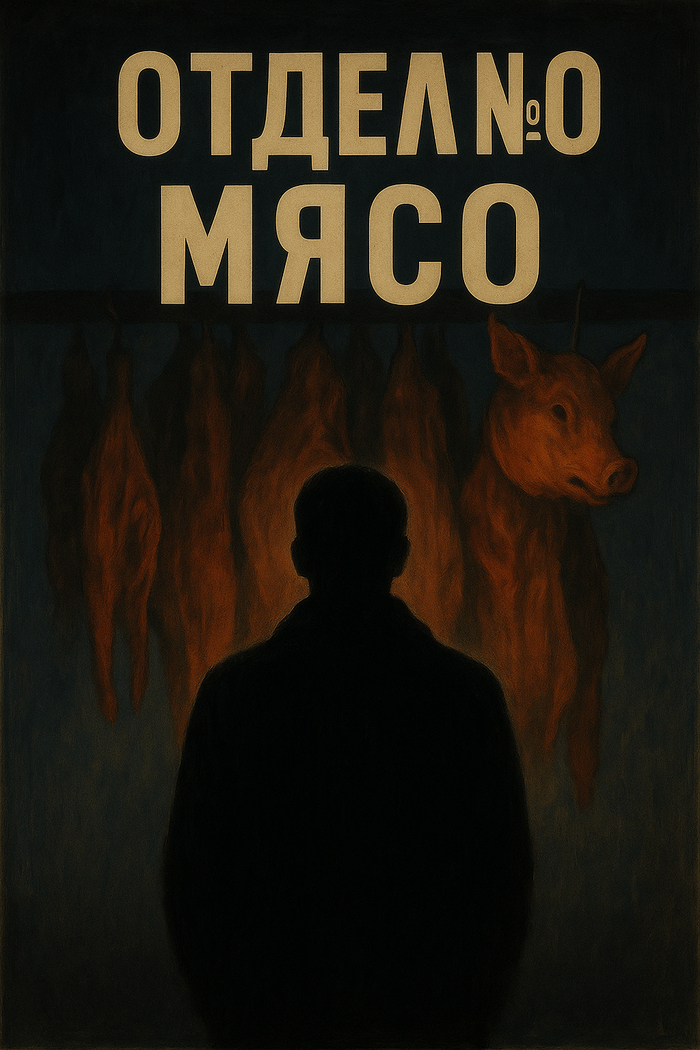Она пришла в мир, которого больше нет, со спутником, который несёт ничто. Её имя — тайна. Её цель — загадка. На развалинах Петербурга ей встречаются не люди и не призраки, а узнаваемые сущности, воплощённые архетипы. Каждый предлагает свой соблазн, каждый пытается её остановить. Но зачем?
Как хотела меня мать
Да за первого отдать,
А тот первый — блудодей неверный.
Ой, не отдай меня, мать.
Она рухнула на асфальт ничком. Застонала, слепо зашарила руками вокруг. С шипением втянула воздух, когда и так ссаженную на локтях кожу ободрало острым щебнем. Впрочем, поиски оказались важнее.
Наконец пальцы сжались на искомом. Грубая рукоять, наспех обмотанная кожей, кривоватое, замятое лезвие. Она подтянула нож к себе, отжалась от неприветливой дороги и встала.
В нос ударило гарью, кислой ржавчиной и пылью. Зрение возвращалось неровными пятнами, плыло и двоилось. Помассировав веки, она глубоко вдохнула, закашлялась, но всё же решилась поднять голову.
То, что открылось взгляду, лучше бы оставалось во тьме. Город с Поклонной горы выглядел полуобглоданной, коптящей в углях тушей древнего мастодонта. Грязно-кирпичный горизонт тут и там подпирали дымные колонны и руины высоток. Сломанной костью торчала башня Лахты, тускло бликующая остатками стекла при зарницах. А на самом краю робкой искоркой мерцал купол Исаакиевского собора.
Ветер захрустел останками сосен. Она зябко обхватила себя, потом выпрямилась и повертела головой, отмахиваясь от закинутой на гору новой порции пыли. Перекрученные рельсы резали застывший поток машин, тянущийся в сторону Парнаса. В ближайшей, с на удивление целыми стёклами, сидела иссохшая мумия в толстовке, поло и джинсах. Хватило одного удара оголовьем ножа, чтобы добраться до цели.
Уже спускаясь по Энгельса, на ходу потуже затягивая ремень, она услышала музыку. Вкрадчивая, томная мелодия бродила вокруг, словно кочуя из одного авто в другое. Звуки обволакивали, заставляли непроизвольно замедлять шаг, покачивать бёдрами, разворачивать плечи. Даже асфальт, разбитый, размолотый в крошку, начал будто бы сам подстилаться в такт.
Стоявший на повороте лаковый пурпурный «Майбах» щёлкнул дверью. Оттуда вынырнул элегантно одетый брюнет; пригладил волосы, хлопнул в ладоши, повёл руками вокруг. Музыка зазвучала жирнее, сочнее, и под её жаркие волны застучали двери прочих машин. Пергаментные скелеты, подёргиваясь, ползли наружу, на ходу превращаясь в оборванные, грязные, но вполне плотские фигуры живых людей.
— Удовольствие! — воскликнул брюнет. — Немного удовольствия в эти мрачные будни! Ах, сколько идей, сколько задумок не реализовано…
Он подмигнул и в один шаг оказался вплотную.
— Но ты же мне поможешь?..
В его взгляде плескалось древнее, тёмное пламя. Фигуры начали сбиваться в пары, кружиться в танце, меняться партнёрами. Полуобнажённые тела лоснились, набухали соком, отращивали соблазнительные формы. Музыка поглощала, затягивала, погружала…
Она дождалась, когда руки брюнета возьмут её за плечи. Улыбнулась. Разжала тонкие губы:
Нож дёрнулся вниз. Скрипучий, хрусткий звук оборвал музыку. Брюнет застыл, его утратившие глубину глаза выкатились, зрачки сжались в щели. Он тоненько завизжал:
— Дрянь! Так нечестно! Что ты приволокла?..
Договорить не успел. Танцоры мгновенно истлели, рассыпались кучками тряпья и костей. Сам брюнет пошатнулся, запрокинул голову, вздулся грудой липких, пурпурных отростков. Эта груда за считанные секунды разбухла до макушек ближайших деревьев, забурлила… И лопнула, тая в душном воздухе робкими пурпурными светлячками.
Она вздохнула. Осмотрела нож, провела ногтем по лезвию. И не спеша пошагала дальше, в сторону центра города.
Как хотела меня мать
Да за втОрого отдать,
А тот втОрый — скаред крохоборный.
Ой, не отдай меня, мать.
Чем ближе к Светлановской площади, тем хламнее становилась дорога. Автомобили принялись громоздиться друг на друга, между ними прорастали мотоциклы, скутеры, самокаты. К стенам жались микроволновки, посудомойки, стиральные машины. На зубоврачебном кресле стоял пустой аквариум, набитый бижутерией, а над комодом из морёного дуба возвышался огромный плоский телевизор, замотанный в провода и обвешанный старыми кассетными магнитофонами.
Скоро ей уже пришлось осторожно ступать по осыпающимся горам пластика, металла и картона. Утёсы книг, ноутбуков и парадного хрусталя тянулись к тревожному бурому небу, нависая и стискивая узкую тропинку. Вокруг постоянно шуршало, шелестело, негромко брякало и постукивало. Когда звуки послышались и сзади, она замерла и обернулась.
Существо, схожее с крупным пауком, деловито волокло по тропинке ореховый пенал с дорогими перьевыми ручками. Вместо брюшка у твари выпирал человеческий череп, посверкивавший жёлтыми огоньками в глазницах. Лапки оказались парой высохших ладоней, ловко перебиравших костистыми пальцами. Существо ловко обогнуло её ноги и прыснуло дальше, к центру площади, не выпуская добычу.
А в центре творилась суета. Из переплетённых, сплавившихся воедино вещей рос высокий трон. На троне сидела скрюченная, тощая старушка. Она ежесекундно принимала очередное подношение от очередного паука, осматривала его, поджимая синие от дряхлости губы, и отбрасывала в сторону. Тарелки, смартфоны, часы — всё это немедленно плавилось, теряло облик, врастало в скрюченные обелиски вокруг трона. И трон тоже набухал, поглощая, ширясь и нависая над всем.
— Барахло, — пробормотала старушка, бросив на гостью угрюмый взгляд. — Ты ж посмотри, сколько барахла они накопили. А ничего, ничегошеньки стоящего!
В руках её оказался антикварный арифмометр. Новая владелица пощёлкала рычажками, покрутила ручку и кинула прибор за спинку трона.
— Барахло, — снова раздалось поверх душного шелеста. — Вот глянь, глянь. Все время копили, складывали, собирали… И что теперь?
Поведя сухой ладонью вокруг, старушка наконец уставилась на посетительницу. Глазки под мощными бровями у неё светились таким же жёлтым, что и у пауков. Казалось, они забирались в каждый карман, выворачивали каждую складочку. Искали, отбирали, складывали.
— Ну хоть ты, а? Хоть ты меня порадуешь?
Подойдя к трону, она уселась на расписанный хохломой детский стульчик. Сложила локти на колени, сгорбилась, оглядываясь. Покачала головой и протянула нож.
Пауки порскнули в стороны. Старушка резво соскочила с трона, ухватила добычу и заплясала вокруг.
— Да! Оно! Наконец-то! Ты ж моя радость, ты ж моя… моя прелес-с-сть…
Сухонькие ручки вскинулись в воздух, словно принося лезвие в жертву кому-то невидимому. Низкие облака заклубились, прянули в стороны. Сверху пробился тонкий, почти задушенный пылью лучик. Упёрся старухе в лоб…
Та дёрнулась, завертелась, замахала ладонями. Выскользнув из утративших хватку пальцев, нож нырнул за ворот платья. Луч стал шире, накрыл всю бьющуюся фигуру.
— Моё! — накрыло площадь визгом. — Моё!
А потом луч пропал. Истаял. Как истаяла и старушка, осыпавшись пеплом, и её пауки, и горы хлама.
А нож остался. Она подняла его, повертела, разглядывая. И снова пошагала дальше, не торопясь, но и не медля.
Как хотела меня мать
Да за третьего отдать,
А тот третий — в зависти как в клети.
Ой, не отдай меня, мать.
От Светлановской пришлось попетлять. Где-то дорога превратилась в намытую подземными водами жижу, где-то поперёк улицы лежал целый дом, слепо таращась пустыми окнами. В какой-то момент даже пришлось последовать за железнодорожной насыпью, утыканной согнутыми в арки рельсами.
По правую руку показался на удивление хорошо сохранившийся сквер. Ясени, клёны и берёзы стояли в полной целостности, листва зеленела и стряхивала налетавшую пыль. Правда, воздуха словно не хватало: приходилось вдыхать чаще, глотая холодную стыль и задерживая выдох.
Она почувствовала, как со стороны сквера на неё смотрят. Остановилась, пригляделась внимательнее. Взглядов стало больше. Они изучали, они ощупывали. Взвешивали, измеряли и оценивали.
Арки сложились в галерею, сбежали с насыпи, повели к центру сквера. Приглашение, от которого не следовало отказываться. Она легко перепрыгнула сваленные стопкой шпалы и направилась, куда звали.
У стелы в конце аллеи метался взлохмаченный юноша. Он то закладывал руки за спину, то хлопал себя по бёдрам. Отблески от его ярких зелёных глаз искали нечто, чего не найти было во всём городе. А может, и в целом мире.
— Ну почему ты?! — вдруг выкрикнул он и вперился в памятник. — Что в тебе такого? Подумаешь, правнук арапа! Да я бы… Да если бы…
Она подошла ближе, прислонилась к одному из фонарей — тоже выкрашенных в сочную зелень. Юноша не обратил на неё внимания, продолжив носиться кругами.
— А убийца? Кто б узнал, если б не громкое имя. Имя жертвы, имя эпохи, имя города! Кому вообще пришло в голову ставить город на болоте? А ведь сбылось. Окно в Европу, Северная Венеция, колыбель Революции… Да почему?!
Взгляды вернулись. Из-за каждого дерева, из-за каждого куста, каждой скамейки. Она почувствовала их всей собой. Ощущение стало невыносимым… А потом она увидела их.
Тысячи глаз. Таких же зелёных, таких же ищущих. Они выплывали из мглы, всех размеров, со всех сторон. Они оценивали и отчаянно жаждали.
— Ты, — произнесли со спины.
Она повернула голову. Юноша стоял рядом. Нервно сплетал пальцы, мялся, морщился, шаркал.
— Ты ведь тоже знаешь какой-то секрет? — голос его хрипел и подвывал. — Дай мне его. Дай, прошу. Я хочу быть лучше, чем они. Больше, чем они. Все они. Все!
Он подпрыгнул на месте. Стена глаз надвинулась ближе. Холод и духота сковывали, пили силы, давили волю.
— Это должно быть моим, ну? — Юноша встал на колени и протянул руку. — Пожалуйста… Моим… Чтобы лучше. Чтобы целиком. Мне нужно…
Из последних сил она кивнула. Склонилась ближе, пошатнулась. Обошла зеленоглазого по кругу, ведя кончиком ножа тонкую черту. Потом села на корточки и воткнула лезвие в песок между коленей.
— Вот, — голос едва шептал. — Отныне и впредь здесь нет никого лучше тебя.
Захохотав, юноша вскочил. Тысячи глаз уставились на него, пока он прыгал на месте и выкрикивал:
По взирающей сфере прошла волна. Глаза завертелись, то раздуваясь, то сжимаясь в точку. В какой-то момент они снова уставились на пляшущего в круге хозяина… И хлынули к нему.
Спустя полминуты в сквере больше никого не осталось. Она хватанула ртом набежавший ветер, уселась прямо на землю, отдышалась. Выдернула из песка нож, встала, покачиваясь. И пошагала дальше к своей цели, не оглядываясь.
Как хотела меня мать
За четвёртого отдать,
А четвертый — ни живой, ни мёртвый.
Ой, не отдай меня, мать.
Мосты от Чёрной речки до площади Льва Толстого на удивление выжили. Где-то частично осыпались пролёты, где-то накренило опоры, где-то потребовалось пробираться сквозь заторы и баррикады. Встречались и сгоревшие танки, и развороченные капониры на берегу. Сложнее всего оказалось с Силиным мостом — тот просто сложился пополам прямо в воду, и пришлось намокнуть.
А вот Каменноостровский проспект словно вымело — от площади Шевченко и дальше на юг. Ни машин, ни военной техники, ни останков людей. Дома стояли абсолютно нетронутыми, и только облетевшие деревья под низким тревожным небом намекали, что в городе не всё в порядке.
И тишина. Гул пожаров, треск зарниц, рокот обвалов — Петроградскую сторону будто накрыли колпаком. Даже тучи перестали крутить свою карусель и словно застыли в тусклой фиолетовой дымке. Воздух отсырел и дышал осенью, хотя ни опавшей листвы, ни неизбежных луж видно не было.
На Австрийской площади, прямо на поребрике возле пустующих клумб сидела одинокая фигурка. С виду совершенно бесполая, в плаще цвета бледной фуксии, в коротких зауженных брюках и со смартфоном в руках. Фигурка безостановочно водила указательным пальцем по экрану, периодически вздыхала и печально вскидывала брови.
— Привет, а ты куда? — произнёс тихий, бесцветный голос.
Что-то вынудило остановиться. То ли сам тон, то ли атмосфера на площади. Незваная мысль скользнула по краю сознания: и правда, куда?
Тряхнув головой, она сжала губы и махнула рукой:
— Зачем? — пожали плечами в ответ. — Там ничего нет. Где-то пепел, где-то развалины. Хочешь, покажу?
Ноги сами дёрнулись шагнуть. В конце концов, почему бы и не разведать путь, если есть возможность? Она аккуратно уселась рядом, отжала рукав толстовки. Фигурка подвинулась ближе и развернула смартфон.
По экрану бежали кадры, снятые сверху. Вот центр, на который словно свалили орду фугасов. Вот спальные районы, где порезвился огонь. Вот гигантский провал между Мужества и Лесной, болото на месте Сосновки и обломки КАДа. Камера словно уплывала выше с каждым новым ракурсом, и город разворачивался под ней — разбитый, отравленный, обгорелый. Уничтоженный. Так какой смысл?..
Она снова тряхнула головой. Оказалось, фигурка успела прильнуть к её плечу, обвить свободной рукой, прижаться губами к уху:
— Нет ничего. И не было. И не будет. Сколько ни старайся, всё канет. Останься здесь, останься со мной. Нам некуда спешить…
Бесплотный голос завораживал. Тянул прямо сейчас лечь на асфальт, раскинуть руки и смотреть в низкое фиолетовое небо, которое мягко убаюкивало неизбежной тоской…
Нож в пальцах дёрнулся. Острая боль пореза прошила тело целиком, от ступней до макушки. И боль же напомнила о смысле, о сути, о цели.
Она попыталась встать и не смогла. Лиловая дымка успела оплести, обволочь тело, укутать в упругий кокон. Нож снова дёрнулся. Собрав всю волю, сосредоточив всё намерение в кулаке, она с натугой повела лезвием вверх. Скрипнуло, лопнуло — и пелена подалась, развалилась на обрубки нитей, устремилась по углам площади.
— Куда же ты? — спохватилась фигурка. Вскочила следом, рванулась ухватить за руки, но замерла при виде ножа. — А я? Ты меня бросишь?
Не отвечая, она сделала шаг, другой, снова повела вокруг ножом. Фиолетовые оттенки таяли, сменяясь привычным грязно-рыжим. Так, нужный выход с площади?.. Ага, вот он. Пора.
— Постой же! — пискнули сзади. — Это глупо! И грубо, в конце концов. Дай мне сказать, это очень важно…
Не оборачиваться. Идти. Хотя… Остановиться и бросить через плечо:
Писк взвился к небу — и оборвался. Стены домов затрещали, с них начала сыпаться штукатурка. Где-то звонко лопнули провода. Раскололась ваза клумбы. А она всё шагала и шагала, и самое важное больше не грозило сбежать из головы.
Как хотела меня мать
Да за пятого отдать,
А тот пятый — мироед проклятый.
Ой, не отдай меня, мать.
За Горьковской пошли сплошные руины. Целые холмы, гребни, увалы и распадки, сложенные из кирпича, бетона, плитки и асфальта. Над Петропавловской крепостью словно потрудились бульдозеры, спихнув её в Неву. Сама Нева обмелела, заболотилась, заросла шиповатыми хвощами и чем-то, похожим на гигантскую росянку. Троицкий мост едва торчал из трясины боком, в последнем рывке выставив чугунные канделябры и перила. По ним и пришлось перебираться, стараясь не оступиться и не кануть в бочаг.
Дворцовую набережную и улицу Миллионную тоже срыли и превратили в непроходимую свалку, поэтому она прокралась по Марсову полю, стараясь не провалиться в едва заметно движущиеся воронки. А вот Большая Конюшенная на удивление уцелела, особенно ближе к ресторанной части. ДЛТ так и вообще выглядел почти целым, словно его зацепили, но вскользь.
Следующий за ним театр эстрады Райкина приветливо светился оконцами. На тротуар, захватывая проезжую часть и аллею, уютно легла открытая веранда. За единственным занятым столиком разместился приятный кругленький господин — про таких в своё время говорили «жуир и бонвиван». Он периодически отправлял в рот нечто аппетитное, жмурился от удовольствия и отхлёбывал их тонкого бокала.
Она вдруг ощутила, насколько голодна. Потянуло рухнуть за соседний столик, откинуться в плетёном ротанговом кресле и щёлкнуть пальцами, призывая официанта. Ароматы, донёсшиеся из открытой двери с вывеской «Goose Goose», не помогли ни разу. Ноги сами понесли, сами усадили, сами благодарно вытянулись… Кругленький господин подмигнул и пересел ближе.
— Ах, итальянская кухня, — он обернулся ко входу и хлопнул в ладоши. — Да ещё в городе, построенном итальянцами. Совершенно не понимаю, как скучные римляне, поглощавшие свои скучные каши и скучный моретум, дали рождение такой чудесной нации.
На столе возникла бутылка вина, бокал, полотенце, приборы. Пробка выскочила сама, и бонвиван тут же плеснул рубиновой жидкости.
— Отведай, душа моя, отведай. Кровь земли, самый её сок.
Она подняла бокал ко рту, но в последний момент принюхалась. Пахло знакомо, пронзительно знакомо, но никак не вином. Сделав вид, что пригубливает, она светски улыбнулась и отставила ёмкость в сторону.
А кругленький уже суетился над меню. Слизывая крошки с полных губ, он жизнерадостно мычал:
— Пицца… Хм-м… С одной стороны, классика, с другой, так банально… Паста? Тоже успели опошлить… Ох уж мне этот общепит… А! Вот! Нашёл!
Кинув меню в сторону, он снова хлопнул. Из тёплого полумрака по столешнице скользнуло блюдо с кольцеобразным пирогом, благоухающим так, что она чуть не захлебнулась слюной. Бонвиван же поморщился:
— Негодяи, опять забыли порезать. Ну ничего, я сейчас...
Он полез было за пазуху, но замер, когда на столешницу рядом с блюдом лёг нож. Всплеснул пухлыми ручками, запротестовал:
— Да побойся же кулинарных богов. Разделывать «Касатьелло» эдаким тесаком… Позволь, в конце концов, за тобой поухаживать!
Но нож взмыл в воздух — и рубанул пирог пополам. Да так энергично, что расколол и блюдо.
На столешницу пролился тухлый, смрадный сок. Вываренные пальцы не спеша поползли от разреза, словно черви. Белёсым яйцом покатился чей-то глаз. А внутри медленно, жутко запульсировало человеческое сердце, покрытое пятнами некроза и гнили.
Бокал треснул. Без особого удивления она подняла его за скривившуюся ножку и принюхалась снова. Кровь. Конечно же, кровь.
Кругленький схватился за грудь. Лицо его побурело, обмякло, глаза закатились. Он хрипло пролаял:
— Душа… Душа моя, ты меня убиваешь…
Она встала. Пнула столик, чтобы тот отлетел в сторону, склонилась над господином.
Лезвие чиркнуло об воздух и впилось в раззявленную, гнилозубую пасть, прямо в бездонную глотку.
Туша надулась, растеклась по улице, распахнула новые рты, задёргалась, забурлила. Оконца кафе налились болотными оттенками, из них потянулись тёмные щупальца. Увернувшись от одного, второго, она нырнула в ближайшую арку, скорчилась за гранитной тумбой…
Раздался тихий хлопок, а за ним — жалобный свист. На тротуаре не осталось ни веранды, ни столиков, ни владельца. Только нож негромко брякнул об асфальт. Она подобрала его и пошла дальше, к Невскому и направо.
Как хотела меня мать
Да за шОстого отдать,
А тот шОстый — яростный да грозный.
Ой, не отдай меня, мать.
Над Невским кружились лица. Десятки, если не сотни огромных каменных масок, усыпанных обломками вывесок, арматурой, битой посудой, постерами и прочим хламом. Перемазанные алым, лица морщились, пучили глаза, разевали рты в безмолвном вопле.
Впрочем, нет, не безмолвном. От истока проспекта доносился приглушённый вой, перемежавшийся низким рыком. Заслышав его, маски вздрагивали и принимались разевать да пучить ещё яростнее.
Перекрёсток с Адмиралтейским оказался завален, и пришлось вернуться к Большой Морской. Арка Генштаба стояла, облепленная масками и словно держащаяся только на них. Дальше открывалась Дворцовая площадь, а на ней…
На площади пылало, коптило и скрежетало. Чудовище, настолько же схожее с человеком, как росомаха походит на мышь, носилось кругами, врезалось в кунги командных машин, рвало на части шасси ракетных комплексов, лупило кулаками по остаткам брусчатки. Фасад Зимнего перестал существовать: дворец выглядел покосившимся термитником, который вскопал муравьед. Только Александровская колонна продолжала гордо выситься над хаосом, словно ось творящегося вокруг деконструктивизма.
Разорвав в клочки станцию РЛС, чудовище замерло на мгновение, а потом запрокинуло голову и взревело. Пришлось расставить ноги и наклониться, чтобы ударная волна не вмяла в обрывки ограждения. Казалось, монстр никак не насытится сеемым разрушением. Казалось, он ищет. Ищет и не может найти.
Она повертела нож в ладони, перехватила поудобнее и направилась строго навстречу. Тут не о чем было говорить. Только действовать.
Заметили. Брусчатка дрогнула, когда чудовище устремилось к тонкой, хрупкой в сравнении с ним фигурке. Пламя прянуло от порывов ветра, ржавый остов неизвестной машины смяло, разметало по площади. Идти, не оглядываться, не суетить взглядом. Вперёд и единственно вперёд.
Громада набрала скорость, пригнулась, прыгнула… Рывок был неотвратим, неизбежен, смертоносен. Но что-то взблеснуло под багровым, чадливым небом. Что-то выжгло площадь до плёночного негатива, залило вспышкой магниевого блица. А когда блики выдохлись и растаяли, монстр уже лежал на спине. С ножом, по рукоятку вогнанным в грудину.
Она подошла ближе, стала на колени. Провела ладонью по бугристому, покрытому костными выростами лбу. Прикрыла все три глаза, из которых стремительно утекало алое. Приникла щекой к скрюченным когтистым пальцам. И ощутила, как по скулам тянутся едкие, горькие ручейки.
Как хотела меня мать
Да за сёмого отдать,
А тот сёмый — пригожий, весёлый —
Сам не захотел меня брать.
Бурые тучи пробило десятком дыр. С чистейшего, свежего неба на землю рухнули золотистые колонны света. Оттуда же, сверху, раздалось негромкое, ублаготворённое пение.
Ангел на макушке колонны расправил крылья, стряхнул патину бронзы и не спеша, величаво спустился на площадь.
— Слава! — трубный глас перекрыл и так стихшие звуки города. — Слава победительнице, избавительнице, покорительнице! Во человецех благоволение и благорастворение на воздусях!
Он зашагал навстречу, уменьшаясь по пути, обретая всё более человечные черты. Наконец его глаза, ярко-синие с хулиганистой золотинкой, оказались прямо напротив её. Он усмехнулся и абсолютно обыденным тоном заметил:
— За что люблю героев: они всегда готовы на подвиг. Спасибо от всего сердца… Если бы оно у меня было.
Склонив голову, он указал изящным пальцем на нож.
— Милая игрушка. Но неужели ты думала, что она поможет справиться со мной, с первейшим творением, вечным, возлюбленным и свободным?
Покачался с пятки на носок, надул губы и аккуратно взялся за лезвие.
— Забирай, — согласилась она. — Если так нужно.
В ладонях ангела нож мягко засветился. Рукоять потянулась, проросла в крепкое, потёртое древко. Полотно отзеркалило само себя, растолстело, заострилось с обеих сторон. Копьё повисло в воздухе, а потом вернулось к новому хозяину.
— Надо же, — пробормотал тот. — Совершенно заурядный плотник и не менее заурядный солдат… Ещё раз спасибо. Всё, иди, ты мне больше не нужна.
— Точно не нужна? —она улыбнулась и сложила руки на груди.
— А смысл? — усмешка вильнула тонкой змейкой. — Город мой. Мир — мой. Братьев, да и, кхм, сестёр ты извела. Поздравляю, конкурентов не осталось. Чего ещё желать мне, звезде нового утра? Скажи же, Лилиту!
Вместо ответа она расплела руки и потянулась к его ладоням. Он взглянул с подозрением, сделал было шаг назад… Но не успел.
Грязные, намозоленные пальцы с обломанными ногтями нежно взяли за крепкие запястья. Потрескавшиеся губы потянулись к высокому светлому лбу. Прижавшись всем своим измождённым телом к телу прекрасному, совершенному, идеальному, она еле слышно прошептала:
— Может, материнской любви?
Ангел замер. Потом, утратив всё своё величие, ссутулился, потускнел и обмяк. Две одинокие фигуры, стоявшие посреди площади, обхватили друг друга — так крепко, как способны только мать и сын. Копьё снова засветилось, а следом засветились и оба силуэта. Сияние набирало силу, сливалось в единое пятно, отделяло явь от нави, правду от кривды.
Потом не осталось ничего, и ничто было всем.
Она вздохнула. Перекинула копьё в левую руку, правой коснулась перьев в раскрывшихся за спиной крылах. Повела ладонью перед собой.
— Я — Лелиэль. Ночь, истина, мать. Пусть сей долгий и скорбный день завершится. Пусть во тьме наступит новое рождение. Пора отдохнуть.
Усталый город вздохнул и приник к измождённой земле. Шёл дождь, гасли пожары, с тихим шелестом кутались в сумрак руины.
И был вечер, и настала ночь. Первая за долгое, долгое время.