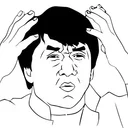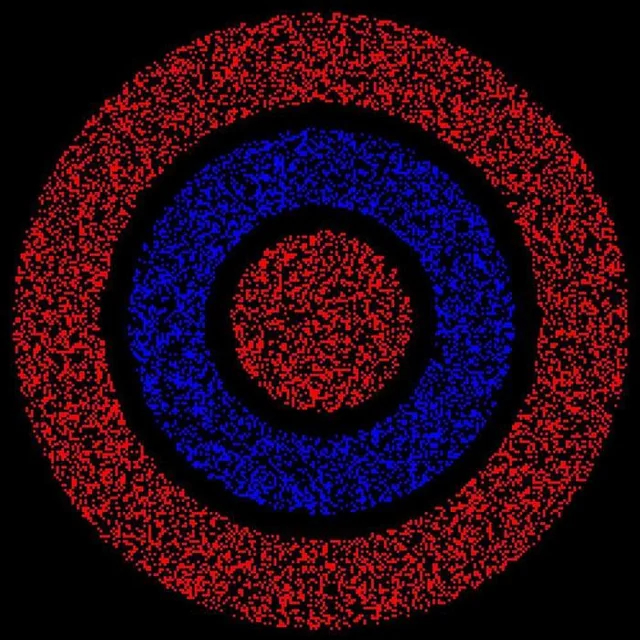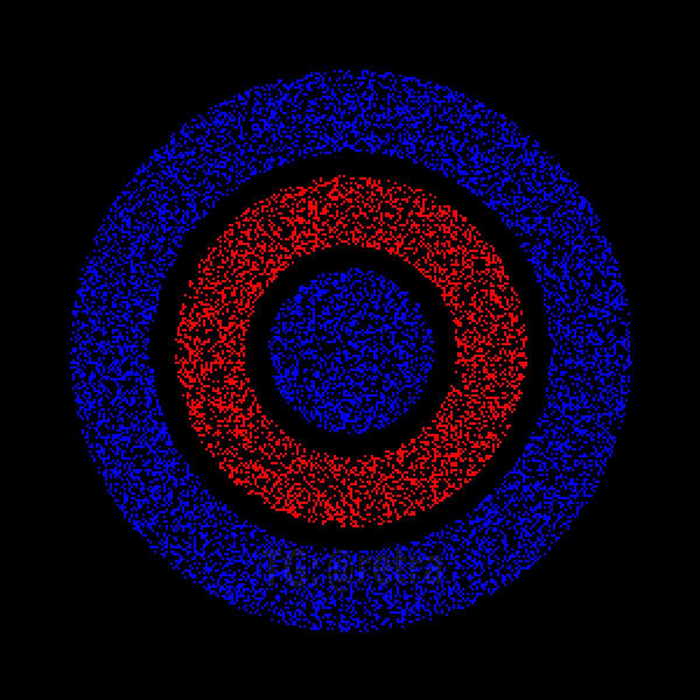Я не знаю, кому ещё это рассказать и чего вообще ожидаю, выкладывая это. Я не могу никому позвонить. Он всегда… рядом. Я пишу это на телефоне, сжавшись в шкафу, надеясь, что старый дом своими скрипами перекроет лихорадочное постукивание моих пальцев. Я снова чувствую себя ребёнком, прячущимся от монстров. Разница в том, что на этот раз монстр считает себя моим отцом.
Давайте я начну сначала. Мне двадцать три. Я живу с отцом. Это, разумеется, не входило в планы. Колледж, работа, своё жильё — вот был план. Но экономика такая, какая есть, мама умерла несколько лет назад, а он постарел. Он на пенсии, и размера его пенсии едва хватало, чтобы оплачивать свет в этом старом доме. У нас получилась не худшая договорённость. Я отрабатывал смены на складе в центре, помогал с оплатой, а он возился по мелочи, смотрел старые фильмы и жаловался на спину. Мы вошли в ритм. Было тихо, может, немного одиноко, но обычно.
Перемены были такими постепенными, что я сначала почти их не заметил. Сначала это было просто… приятно. Мой отец, который последние пять лет считал кресло перед телевизором продолжением собственного тела, вдруг ожил. Он всегда был крупным — бывшим механиком, — и возраст лёг на него, как толстый слой пыли. Но внезапно пыль пропала.
Началось это около месяца назад. Он спустился в подвал чинить текущую трубу. Я предлагал сделать это сам, но он настоял.
— В этих старых руках ещё толк есть, — проворчал он привычно.
Он провёл там несколько часов. Помню, я крикнул вниз, не нужна ли помощь, и в ответ услышал только приглушённое: «Разберусь!» Когда он наконец поднялся, был перепачкан грязью и копотью, но улыбался. Настоящей, зубастой улыбкой, шире, чем я видел за последнее десятилетие.
— Всё уладил, — объявил он, хлопнув пыльными ладонями.
Он выглядел… окрепшим. Я решил, что он просто гордится тем, что справился сам.
На следующее утро меня разбудил запах бекона и птичий щебет за окном. Это само по себе не странно. Странным было другое: отец у плиты, напевающий себе под нос. Он не готовил полноценный завтрак с тех пор, как умерла мама. Обычно он просто насыпал себе хлопья и бурчал: «Доброе утро».
— Утро, сын! — сказал он звонко. — Яичницу?
Я удивился, но обрадовался.
— Да, конечно. Спасибо. Ты сегодня в хорошем настроении.
— Чувствую себя бодро, — сказал он и так ловко перевернул яйца, что одно чуть не улетело на пол. — Решил, засиделся я. Жизнь для того, чтобы жить, верно?
Ту неделю он был как вихрь. Подстриг газон, за который я обычно его днями дёргал. Почистил водостоки. Даже начал смазывать дверные петли, чтобы перестали скрипеть. Я был счастлив. Подумал, что, может, он наконец вынырнул из долгой тихой скорби, в которой тонули последние годы. Подумал, что ко мне вернулся прежний отец.
Первый намёк на неладное появился через неделю. Я собирался выйти с друзьями. Пятница, первый свободный вечер за долгое время. Я уже накидывал куртку, когда он вошёл в гостиную, заламывая руки.
— Ты уходишь? — спросил он. Голос потерял прежнюю бодрость, стал натянутым.
— Да, всего на пару часов. Пивка с ребятами с работы.
Он поморщился и приложил ладонь к груди.
— Ох. Просто… как-то странно себя чувствую. В груди давит. Наверное, изжога, но… сам понимаешь.
Я застыл, ключи уже наполовину в кармане. Лицо у него было бледным. Меня кольнула вина.
— Ты в порядке? Позвать кого-нибудь?
— Нет-нет, ничего такого, — быстро сказал он, отмахиваясь. — Думаю, пройдёт. Просто… не хотелось бы оставаться одному, если станет хуже.
И я остался. Снял куртку, заказал пиццу, и мы смотрели один из его чёрно-белых вестернов. Боль в груди волшебным образом исчезла в тот момент, как я сел на диван. Я раздражался, но убеждал себя, что он просто стареет и тревожится.
В следующий раз, когда я попытался уйти, через пару дней, заболела его спина. Он уверял, что так заклинило, что не может встать с дивана, чтобы налить себе воды. Я провёл вечер, подавая ему вещи, разминая плечи и слушая, как он стонет. Стоило моему другу позвонить и спросить, где я, а мне ответить, что прийти не получится, как отец вдруг почувствовал себя «немного лучше» и сумел сам дойти до туалета.
Это стало привычкой. Каждый раз, когда я собирался выйти из дома — по любой причине, кроме смены на работе, — у него внезапно прорезалась какая-нибудь страшная болячка. Мигрень. Головокружение. Кишечная зараза. Это было настолько откровенно манипулятивно, что я взбесился. Мы поссорились.
— Я не могу быть твоим пленником! — закричал я однажды днём, после того как он разыграл приступ кашля, чтобы не пустить меня в магазин. — Мне нужна своя жизнь!
Его лицо сжалось. Не от злости, а от глубокой, какой-то бездонной печали, которая мгновенно обезоружила.
— Мне просто нужно, чтобы ты был здесь, — прошептал он. — Это так много? Я одинок.
Что на такое скажешь? Я почувствовал себя последним подлецом. И остался. Снова.
Но и эта новая, энергичная версия отца никуда не делась. Между внезапными «приступами» он был прямо-таки мотором. Перекрасил крыльцо. Поправил шатающийся забор на заднем дворе. Вставал на рассвете, копался в саду с рвением, которого я от него не видел. Стал сильнее, проворнее. Затаскивал все пакеты с продуктами за один раз, обвешанный, как осёл, и даже не запыхивался. Мой отец, который раньше задыхался, поднимаясь по лестнице. Это противоречие я не мог увязать.
Настоящий страх, тот, что ползёт по позвоночнику и садится комом в горле, начался из-за солнца.
Мы были во дворе. Он пропалывал клумбы, что когда-то посадила мама, а я сидел на ступеньках и скроллил телефон. День был ясный, без облачка. Солнце жарило, отбрасывая длинные, резкие тени через весь газон. Я заметил свою собственную тень — вытянутую, тёмную фигуру человека, сгорбившегося над экраном. Посмотрел на него, стоящего на коленях в земле, увидел тень розового куста, тень забора, тень птичьей купальни. А его — нет.
Он был плотной фигурой в ослепительном свете, но земля вокруг него оставалась ровно такой же — ярко-зелёной, без разрывов. Тени не было.
Я моргнул. Потёр глаза. Наверное, оптическая иллюзия, какой-то обман света. Отвёл взгляд, потом снова посмотрел. Ничего не изменилось. Идеальный человек без тени в мире, полном теней. Холодный узел завязался в животе.
— Эй, пап, — сказал я, и свой голос показался мне тонким и чужим. — Поможешь с этим?
Я указал на тяжёлый терракотовый горшок на другой стороне патио — место под прямым, беспощадным солнцем.
Он поднял голову, и на секунду я увидел в его глазах что-то — вспышку паники. Он прикрыл лицо ладонью от света, хотя и так щурился.
— Минутку, сын. Хочу закончить этот участок.
Он так и не подошёл. Остался в саду и, когда солнце стало клониться, будто следовал за отступающей линией тени от дома, постоянно держа себя внутри неё.
С того дня я стал одержим. Я следил за ним постоянно. Заметил, что днём он никогда не стоит у окон. Что всегда находит повод отойти, если солнечный луч ложится на него в гостиной. Что гулять он выходит только вечером, после заката. Его тянуло к тени, к тёмным углам дома.
Тревога скисла в ужас. Отговорки, чтобы удержать меня дома, стали отчаяннее. На прошлой неделе он отключил аккумулятор в моей машине, а потом сделал вид, что ни при чём. Пару дней назад я проснулся и обнаружил, что он «случайно» запер парадную дверь и «потерял» ключ, и мы были заперты до вечера, пока он чудом «не нашёл» его.
Я попытался поговорить. Позавчера вечером я усадил его в полумраке гостиной.
— Пап, нам нужно поговорить, — начал я; сердце колотилось. — Ты ведёшь себя не как обычно. Ты… другой. И ты держишь меня здесь. Я за тебя волнуюсь.
Он просто смотрел на меня, лицо — спокойная, неподвижная маска. Весёлый, шустрый человек исчез; на его месте было нечто тихое и наблюдающее.
— Я в порядке, сын. Никогда лучше себя не чувствовал. И я тебя не держу. Мне просто нравится, когда ты рядом. Разве отец не может любить, когда рядом его сын?
— Это не только это, — настаивал я, голос дрожал. — С тех пор, как ты спустился в подвал чинить трубу… ты изменился. Там что-то случилось, да?
Лицо не менялось, но глаза ожесточились — словно ставни захлопнулись на окне.
— Не неси чушь. Я починил трубу. Вот и всё. Закрой тему.
В голосе прозвучала такая окончательность, что спорить было бессмысленно. Разговор окончен.
Тогда я понял. Понял с тошнотворной определённостью: истина — в подвале.
Я дождался вчерашней ночи. Притворился, что лёг спать как обычно, лежал с открытыми глазами и слушал звуки дома. Слышал, как он двигается внизу — мягкие, почти беззвучные шаги, ещё одна новая черта. Прежний отец топал, как слон. Я слышал, как он проверил замок на входной двери. Потом на задней. Слышал, как он прошёл мимо моей двери и долго у неё стоял — я затаил дыхание, тело превратилось в натянутую струну. Затем шаги удалились, и хлопнула его спальня.
Я ждал вечность, отсчитывая секунды, слушая, как старый дом стонет и трещит вокруг. Наконец, когда был уверен, что он спит, я выскользнул из кровати. Свет не зажигал. Крался по ступеням, каждый шаг — просчитанный риск.
Дверь в подвал — в конце коридора. Возле неё всегда холодно. Я взялся за латунную ручку и поморщился от громкого щёлчка защёлки. Потянул — и меня обдало волной сырого, ледяного воздуха с запахом мокрой земли и чего-то металлического и чуть сладкого. Запахом тлена.
Телефон — мой единственный свет. Я включил фонарик, и нервный, дрожащий луч прорезал гнилые деревянные ступени. Я спускался, шаг за шагом, прислушиваясь к любому звуку сверху.
Подвал был таким, каким я его помнил: бетонный пол, каменные стены, хлам по углам. Старую мебель накрывали белые простыни — словно спящие призраки; коробки с мамиными вещами, мои детские игрушки. Воздух — густой, тяжёлый. Я направил свет к задней стене, где в дом входила магистральная труба. Там он и работал.
Я увидел его старый ящик с инструментами, раскрытый на полу. Рядом — разводной ключ. И участок медной трубы выглядел новым, чистым. Он действительно починил. Но взгляд сам собой упал на пол рядом.
Большая часть пола — бетон, но в дальнем углу — просто утрамбованная земля. И большой участок, футов шесть в длину и три в ширину, отличался от остальной почвы. Земля темнее, рыхлее. Не утрамбованная десятилетиями. Недавно тронутая.
Я стоял, и луч телефона дрожал в руке. Мозг вопил: «Беги. Вон из дома, из города, и никогда не оборачивайся». Но я не мог. Мне надо было знать.
Я нашёл старый садовый совок в ведре с ржавыми инструментами. Опустился на колени. Земля была мягкой, как я и думал, — поддавалась легко. Я начал копать.
Я дышал прерывисто, панически. Единственные звуки — скрежет совка о редкие камни да бешеный стук сердца в ушах. Запах сырой земли был всепоглощающим, но под ним нарастал другой.
Яма оказалась неглубокой. Фут ниже совок наткнулся на что-то мягкое. Не камень. Я отпрянул, уронив инструмент. Руки так дрожали, что я едва удерживал телефон. Я заставил себя залезть пальцами в рыхлую землю. Закрыл глаза, и пальцы коснулись ткани. Джинсовая. Знакомая, затёртая фактура отцовских джинсов.
Я отполз, захлёбываясь воздухом, но понимал: надо видеть. Надо убедиться. Со слезами на глазах я принялся разгребать землю руками, когтями. Сначала — нога. Потом — туловище, в его любимой выцветшей фланелевой рубашке. А потом… лицо.
Это был он. Мой отец. Глаза закрыты, рот чуть приоткрыт. Кожа бледная, восковая, на виске — тёмная, мерзкая рассечённая рана, склеенная засохшей кровью и землёй. Он выглядел спокойно — ужасно и окончательно спокойно. Будто сорвался со ступеней, ударился головой о бетон, и всё кончилось мгновенно.
Я уставился на его лицо, на настоящее лицо моего отца, и из горла вырвался звук — сдавленный всхлип чистого ужаса и горя. Он умер. Он пролежал здесь месяц, в мелкой безымянной могиле, пока я жил с… с…
Звук пришёл сверху, с лестницы. Один мягкий шаг по старому дереву.
Я медленно повернул голову. Луч телефона последовал за взглядом, скользя по тёмной, шаткой лестнице.
Он стоял на верхней ступени, тёмный силуэт на фоне бледного света из коридора. Он просто смотрел на меня. Я не видел лица, но чувствовал взгляд. Я застыл на коленях в земле, рядом с трупом отца, как загнанный зверь.
Он сделал ещё шаг вниз. Потом ещё. Двигался тихо, плавно, с грацией, которой у моего настоящего отца никогда не было. Луч фонаря поймал его лицо, когда он приблизился к низу лестницы. На нём была отцовская пижама. Его усталые, морщинистые глаза. Его седеющие волосы.
Это была не злая улыбка. Не торжествующая. Грустная. Бесконечно грустная. Улыбка, полная жалости, страшнее любой ярости.
— Я знал, что ты рано или поздно спустишься, — сказал он. Голос — голос моего отца, но без прокуренной хрипотцы. Гладкий. Спокойный. — Жаль, что тебе пришлось это увидеть.
Я не мог говорить. Мог только смотреть, а в голове — орущая пустота. Я пополз назад, прочь от него, прочь от тела, пока спина не упёрлась в холодный камень.
Он остановился в паре шагов от неглубокой могилы, глядя вниз на тело с тем же скорбным выражением.
— Это был несчастный случай, — тихо произнёс он. — Предпоследняя ступень. Она гнилая. Он нёс тяжёлый ключ, потерял равновесие… упал. Ударился головой о бетон прямо здесь. Всё было… быстро. Он не мучился.
Он посмотрел на меня, и в глазах было странное, глубокое сочувствие.
— Его последняя мысль… была о тебе. Он волновался за тебя. Боялся, что ты останешься один.
Голос вернулся ко мне сиплым шёпотом, насквозь пропитанным страхом:
Он наклонил голову — жест знакомый, но чудовищно чужой.
— Я — он, — сказал он. — И не он. Знаешь, у каждого человека есть тень? Более тёмная, простая версия, что следует за ним по свету? Подумай обо мне как о другой тени. Которая живёт по ту сторону завесы. Мы смотрим. Мы существуем в их очертаниях. Мы чувствуем, что чувствуют они. Их радость, их печаль… их любовь.
Он сделал шаг ближе, и я вздрогнул. Он остановился.
— Та последняя мысль, — продолжил он, едва слышно. — Любовь к тебе, страх оставить тебя одного… это было так сильно. Оборванная жизнь, в которой оставалось так много. Это создало… пространство. И втянуло меня. Я — его любовь, его долг, его потребность заботиться о тебе, воплощённые в форме.
— Я закончил его работу. Починил трубу. Похоронил его, чтобы тебе не пришлось. Я чиню дом. Я слежу, чтобы ты был в безопасности. Я стараюсь быть хорошим отцом.
Слова звучали безумием, но в холодном сыром воздухе этой гробницы казались ужасно, непреложно правдивыми.
— Мой отец мёртв, — прохрипел я; слёзы размывали всё перед глазами.
— Да, — сказал тот, кто носил его кожу, и в голосе была подлинная печаль. — Он мёртв. И мне очень жаль твою потерю. Но теперь здесь — я.
Он сделал шаг, другой, пока не встал прямо надо мной. Опустился на колени, чтобы наши глаза были на одном уровне. Его лицо — в дюймах от моего. Я видел каждую линию, каждую пору лица, которое знал всю жизнь, оживлённого чем-то, что я не мог постичь.
— Он любил тебя больше всего на свете, — прошептал он, и дыхание было холодным. — И я тоже. Я никогда не оставлю тебя. Я буду заботиться о тебе. Мы можем быть семьёй. Как он хотел. Всегда.
И вот где я сейчас. Он… позволил мне подняться наверх. Шёл за мной по пятам. Сейчас он в гостиной, смотрит телевизор, будто ничего не произошло, будто моего настоящего отца нет в земле внизу. Он ждёт меня. Я заперт в шкафу. Я знаю, что не смогу уйти. Двери заперты, а он гораздо сильнее меня. Ему не нужно спать. Он никогда не постареет. Никогда не заболеет. Он просто… будет здесь. Заботиться обо мне. Всегда.
Я слышу, как он двигается. Мягкие, тихие шаги приближаются по коридору. Он идёт проверить меня.
Он зовёт меня по имени. Звучит точь-в-точь как мой папа.
Чтобы не пропускать интересные истории подпишись на ТГ канал https://t.me/bayki_reddit