Ответ на пост «Это хомячок, и на его зубах кровь»3
Обычные домашние хомяки тоже здорово умеют убивать. Сирийская хомячиха и большая живая личинка. К сожалению, не заснял, как она за ними гоняется.
Обычные домашние хомяки тоже здорово умеют убивать. Сирийская хомячиха и большая живая личинка. К сожалению, не заснял, как она за ними гоняется.
По данным исследования МГПУ, более 174 тысяч российских школьников обучаются дома. Ученые Пермского Политеха рассказали, какой возраст ребенка и внешние обстоятельства считаются оптимальными для перехода на дистанционный формат образования, почему не стоит этого делать при любых проблемах с социализацией, как на него повлияет невозможность сравнить себя с одноклассниками, станет ли такой школьник организованнее, чем он будет отличаться от обычного сверстника и как помочь ему подготовиться ко взрослой жизни.
Домашнее образование — это форма обучения, при которой ребенок осваивает основные школьные самостоятельно или с помощью родителей, репетиторов, онлайн-платформ, не посещая учебное заведение регулярно. При этом учащийся законодательно прикреплен к аккредитованному учреждению для прохождения обязательных аттестаций и получения документа о его окончании.
Для каких детей образование дома эффективнее
Можно выделить две основные категории детей, для которых формат такого обучения оказывается наиболее эффективным.
– С одной стороны, это дети с трудностями в усвоении материала, которым требуется индивидуальный темп работы, или в отношениях с учителями или одноклассниками. В этих случаях этот вид учебы становится решением, позволяющим обойти сложные для ребенка проблемы. С другой стороны, это одаренные и высокомотивированные ученики, которым скучно в школе из-за медленного темпа и необходимости следовать формальностям и правилам. Они выбирают домашнее образование, чтобы высвободить время для углубленных занятий, спорта или творчества, двигаясь по программе быстрее сверстников, – отвечает кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Елена Расторгуева.
Качество при этом зависит не столько от изначальных черт характера, сколько от грамотной организации процесса, поддержки взрослых и, при необходимости, помощи специалистов.
– Решение о переводе ребенка на такой формат занятий должно приниматься не родителями единолично, а коллегиально — с участием психолого-педагогической комиссии, педагогов и врачей. Такой подход необходим, поскольку не существует универсального психологического портрета, подходящего для такого обучения, – рекомендует кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.
– Всегда важно выяснять мнение вашего отпрыска по этому вопросу и просить объяснить, чем вызвано желание перейти на домашнее обучение. Из этих ответов взрослые смогут лучше понять его мотивацию, что позволит более объективно рассматривать необходимость перевода, – подчеркивает Елена Расторгуева.
Вескими медицинскими показаниями могут стать тяжелые заболевания, инвалидность или выраженные астенические состояния, не позволяющие посещать школу. Однако даже в этих случаях важно не упускать из виду необходимость социализации. Распространенная ошибка родителей — интерпретировать комфортное общение со взрослыми как признак развитости, хотя на деле это часто свидетельствует о неумении взаимодействовать со сверстниками.
– Перед принятием решения обязательно взвесить все плюсы и минусы формата, учитывая все индивидуальные психологические особенности: темперамент, направленность личности, уровень интеллекта, проблемные зоны и жизненные условия, – добавляет Елена Расторгуева.
С какого возраста можно переводить ребенка на обучение дома
Наименьший риск с психологической точки зрения принесет переход в старшем возрасте. К этому времени у подростка уже сформирована база социального опыта, полученного в начальной и средней школе, что снижает риски для саморазвития.
– В младших классах не рекомендуется переводить детей на семейное обучение, потому что регулярное общение со сверстниками и учителями критически важно для формирования эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков. Их невозможно компенсировать никакими знаниями, работой с искусственным интеллектом или взаимодействием с родителями, ведь полноценное, целостное развитие личности связано с чувственным опытом и возможностью испытать его на себе. Особенно опасным считается лишение живого общения в подростковый период, когда контакты с ровесниками становятся ведущей деятельностью и фундаментом для дальнейшей жизни, – отмечает Елена Расторгуева.
На практике переход возможен и в более раннем возрасте при наличии веских причин: частых переездов, профессиональной занятости, например, спортом, или вынужденных обстоятельств. Однако в таких случаях обязательно обеспечить ребенку регулярное взаимодействие со сверстниками вне учебного процесса — через кружки, секции или другие активности, – с этим согласились оба эксперта.
Важно отметить, что не существует определенного «идеального» возраста для перехода на этот формат обучения. Каждый случай рассматривается индивидуально.
Если у ребенка проблемы с социализацией в школе – пора ли его переводить на домашнее обучение?
Социализация — это процесс, в ходе которого усваиваются нормы и ценности общества, учится взаимодействовать со сверстниками и учителями, осваивает разные роли (ученик, друг, одноклассник), развивает навыки сотрудничества, а также адаптируется к школьной среде и ее требованиям. Это важный этап в становлении личности, формирующий нормальное поведение и успешную интеграцию в общество. Но не всегда адаптация в учебном заведении проходит «гладко», некоторые ученики могут сталкиваться с непониманием окружающих, например, буллингом.
Важно отличать настоящий буллинг — систематическую травлю при попустительстве взрослых — от единичных конфликтов, которые являются естественной частью социализации. Ключевыми признаками первого состояния являются повторяемость нападок со стороны обидчика, их целенаправленность и дисбаланс сил. К единичным конфликтам можно отнести как обычный спор, так и что-то более серьезное, возможно, предательство лучшего друга.
– Возможным вариантом выхода из такой ситуации может стать домашнее образование. Ребенку станет спокойней, нервная система восстановится и станет устойчивее. А вот разовые конфликты, пусть даже довольно тяжелые для его психики, не должны становиться поводом «сбегать» из школы. В дальнейшей жизни ему все равно придется сталкиваться с чем-то подобным и учиться взаимодействовать в заданных обстоятельствах. Ограждение от любых стрессовых ситуаций лишает его возможности научиться разрешать споры, отстаивать границы и адаптироваться в коллективе, – объясняет Валерий Литвинов.
Хотя такие меры могут стать временным решением при серьезной травле, оно не заменяет необходимости развития социальных навыков. Задача взрослых — не изолировать чадо от любых трудностей, а создавать среду, где он может научиться конструктивно взаимодействовать с другими в рамках допустимого.
Стоит ли ждать, что домашнее образование разовьет навык самоорганизации
– Этот формат предполагает полную заинтересованность и вовлеченность ученика, что бывает редко в силу нашей психофизиологии. Лень –это наш базовый механизм, предохранитель от трат энергии на задачи, не приносящие очевидной выгоды для выживания. И он срабатывает очень быстро при любой возможности. В условиях ослабленного внешнего контроля за выполнением заданий и отсутствия четкого графика большинство детей не обзаводятся навыками самоорганизации, а, наоборот, получают больше возможностей избегать учебы. Так что ожидать от домашнего образования появления особых компетенций не только преждевременно, но и необоснованно, – считает Валерий Литвинов.
Как невозможность сравнить себя с одноклассниками влияет на ребенка
– В ситуации, когда дополнительных занятий и другой активности у ребенка нет, опасность того, что он будет чувствовать себя менее подготовленным, более напряженным и даже в чем-то беспомощным или, наоборот, необоснованно самоуверенным, невосприимчивым к обратной связи в условиях конкуренции современного общества, очень велика. Пока его сверстники в школе тренируются выигрывать и проигрывать, быть наравне с другими, для них это становится естественным и постепенно формирует внутреннюю силу, устойчивую самооценку. А ученик, получая знания дома, может смотреть на себя только через призму собственных хороших или плохих результатов тестов и контрольных. Это создает суженное, заниженное или завышенное представление о себе, если в такое обучение не включены групповые формы взаимодействия, – предупреждает Елена Расторгуева.
Такие дети оказываются психологически менее подготовленными к реальным вызовам взрослой жизни, где умение работать в команде, разрешать конфликты и адаптироваться в коллективе критически важно.
Чем ребенок, обучавшийся дома, в будущем будет отличаться от людей, которые посещали школу
– Выпускники «домашней школы», находившиеся на нем с раннего возраста, часто сохраняют детскую позицию, ожидая постоянной поддержки и руководства от окружающих, поскольку у них не сформированы навыки самостоятельности и ответственности перед другими. Им тяжело выстраивать дружеские отношения. Они не готовы идти на компромиссы и проявлять гибкость в решениях. Особенно это заметно при гиперопеке со стороны родителей, – отмечает Валерий Литвинов.
Парадоксально, но многие из этих людей впоследствии обижаются на своих мам и пап, которые когда-то пошли у них на поводу, выбрав легкий путь изоляции от внешних факторов. Так что даже при объективных показаниях к такому образованию необходима системная работа по компенсации социального опыта и приучению к независимости, иначе качество будущей жизни человека будет неизбежно страдать.
Как помочь ребенку на домашнем обучении подготовиться ко взрослой жизни
Успешная адаптация требует системного подхода, где рост в обществе формируется целенаправленно. Помимо посещения очных секций и массовых мероприятий, нацеленных на общение со сверстниками, не менее важным становится и приобретение навыков бытовой и учебной независимости. Ребенку стоит передавать полную ответственность за некоторые сферы его жизни.
Родители не должны заменять учителей, их главная задача – сформировать навыки самостоятельной умственной деятельности. В том случае, если занятия грамотно выстроены и проводятся эффективно (этому семья может научиться на семинарах), достигаются цели развития автономности и метакогнитивных навыков учащихся (способности осознавать и контролировать собственные мысли и процессы обучения), столь востребованных на современном этапе в обществе. Таким образом, формат домашнего образования во многом зависит от качества его организации.
Кислые шахтные воды – это серьезная мировая экологическая проблема, которая остается после прекращения работы старых угольных шахт. В среднем они могут выходить на поверхность еще 50–100 лет после их закрытия, при этом отравляя почву, грунтовые воды и реки, нанося непоправимый ущерб экосистеме. Это крайне агрессивные стоки, содержащие высокое количество опасной серной кислоты, а также множество тяжелых и легких металлов (железо, алюминий, никель, кадмий и многие другие). Очистить их полностью – очень сложно, в особенности от лития, который представляет собой сильную щелочь 2-го класса опасности. Традиционные методы с его очисткой не справляются, к тому же требуют больших затрат и сложного оборудования. Ученые Пермского Политеха разработали инновационную и экологически безопасную технологию очистки кислых шахтных вод. Это позволит не только просто и эффективно обезвреживает опасные отходы, но и получать из них полезные продукты – ценные металлы для промышленности и удобрение для сельского хозяйства.
На изобретение получен патент.
Закрытие угольных шахт – это глобальный процесс, происходящий во всем мире, связанный в основном из-за их истощения. В таком случае компании отказываются от нерентабельных месторождений и концентрируют добычу на более крупных и перспективных участках. Основной пик пришелся на конец 20 века из-за исчерпания легкодоступных запасов, экономического кризиса и перехода на нефть и газ, что также снизило интерес к угледобыче. В России это особенно коснулось старых угольных бассейнов, неправильная ликвидация которых принесла колоссальный ущерб природе.
Причина этого – затопление заброшенных шахт, из-за которого вода, насыщенная различными металлами и серной кислотой, выходит на поверхность. Уровень таких компонентов многократно превышает норму, например, содержание железа может достигать 16 тысяч предельно допустимых концентраций. Такие стоки сложно очистить от всех загрязняющих элементов, которые к тому же являются веществами 2-го класса опасности (высокоопасные). Это значит, что они оказывают серьезное воздействие на живые организмы, отравляют земли и реки, восстановление которых в последствии может занять не менее 30 лет.
Существующие технологии сложны в применении, и не способны полностью удалить весь спектр вредных примесей. Особую угрозу среди них представляет литий, который является сильной щелочью и после очистки все равно остается в воде в агрессивной форме. Это делает ее непригодной для использования ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве.
Ученые Пермского Политеха предложили простую, но высокоэффективную технологию для уничтожения всех вредных соединений в шахтных водах, которая кардинально меняет подход к проблеме.
– На первой стадии мы избавляемся от основных металлов, добавляя в токсичный сток небольшое количество (1–2% от всего объема) 10%-ный водный раствор аммиака. При такой концентрации всего за 2–3 минуты происходит реакция: ионы металлов взаимодействуют с аммиаком и выпадают в виде нерастворимых гидроксидов – безопасного осадка, который опускается на дно. Затем отделяем его от воды в специальном отстойнике, и в дальнейшем это можно использовать в промышленности для извлечения ценных соединений, например, железа или алюминия. Таким образом, в стоке остаются лишь сульфат аммония и вредный гидроксид лития, который в свою очередь мы также нейтрализуем, но уже с помощью углекислого аммония. Это реагент, преобразующий литий в безопасное вещество (карбонат лития), в результате чего он также выпадает в полезный осадок, – объясняет Ольга Ручкинова, заведующая кафедрой «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ, доктор технических наук.
Получаемый в итоге продукт оказался многофункциональным. Ученые предлагают два варианта реализации обезвреженного лития: его можно извлечь в сухом виде для применения в разных отраслях промышленности – для покрытия камер сгорания ракетных двигателей, получения фарфора, эмали, глазури, грунтовки для алюминия, листовой стали и так далее. Если же оставить его в безопасной форме в очищенной воде вместе с сульфатом аммония, то получается готовое эффективное аммиачно-литиевое удобрение для сельского хозяйства, которое улучшает минеральное питание растений.
От имеющихся аналогов новая технология отличается тем, что позволяет очистить шахтную воду сразу как от тяжелых, так и от легких металлов, переведя их из 2-го класса опасности в форму 4-5, то есть в безвредную. Кроме того, предлагаемый способ упростил процесс обезвреживания вредных составляющих, и при этом дал возможность выделить ценные материалы.
Подбор точного количества реагента ученые проводили экспериментально на примере обработки кислой шахтной воды из Кизеловского угольного бассейна. Для этого добавляли разный объем 10%-ного раствора аммиака на 1 литр воды – от 4 мл до 24 мл.
– При недостаточном количестве реагента (4–8 мл) металлы уходили в осадок лишь частично и медленно (за 15 минут). При 15–20 мл результат достигался полностью всего за 2 минуты. После 30–40 минут отстаивания вода становилась прозрачной, и лабораторный анализ подтверждал, что в ней остаются только сульфат аммония и гидроксид лития. Для дальнейшей очистки оптимальным оказалось добавление 0,35 литра раствора углекислого аммония, – поделилась Ольга Ручкинова.
В итоге всё это доказывает, что новая технология позволяет очистить воду сразу от всех опасных компонентов и превратить их в полезные товарные продукты – металлосодержащий концентрат, карбонат лития или жидкое удобрение. Процесс прост, не требует дорогостоящих реагентов или сложного оборудования. Его можно адаптировать как для стационарных очистных сооружений, так и для обработки воды непосредственно в каналах шахтного самоизлива.
Разработка ученых Пермского Политеха – это значительный шаг в решении одной из острых проблем горнодобывающих регионов. Она предлагает переработать токсичные отходы с пользой для экономики и сельского хозяйства, одновременно восстанавливая поврежденные экосистемы. Внедрение этого метода позволит дать новую жизнь заброшенным шахтам, превратив их из источников опасности в ресурсные центры.
В 17 веке Фрэнсис Бэкон провел простой эксперимент: он измельчал сахар в темноте и наблюдал искры света. Это явление — механолюминесценция (ML) или триболюминесценция (TL), когда материалы светятся под механическим воздействием, таким как дробление или трение. Обычно ML свойственна жестким кристаллическим системам, что ограничивает её практическое применение из-за хрупкости материалов.
Исследователи из Окинавского института науки и технологий (OIST) нашли способ генерировать ML в некристаллических материалах. Это открывает новые возможности в инженерии, промышленной безопасности и других областях.
"Механическое воздействие разрушает кристаллы, и они теряют ML-свойства, — объясняет профессор Юлия Хуснутдинова, руководитель отдела координационной химии и катализа OIST. — Аморфные материалы сохраняют люминесценцию дольше, не зависят от строгой структуры и проще в дизайне".
В статье, опубликованной в журнале Chemical Science, команда изучила фотолюминесцентные соединения. Они создали тонкие аморфные пленки и протестировали ML через контактное разделение (прижатие и отпускание поверхностей) и трение. Эксперименты показали, что механическая стимуляция генерирует локализованные электрические поля от электризации, возбуждая материалы и окружающий газ.
Тестируя соединения через защитное пластиковое покрытие, исследователи продемонстрировали неразрушающий эффект ML и потенциал для создания материалов, реагирующих на стимулы.
"Традиционно считалось, что разрушение кристаллов — ключ к ML, — отмечает доктор Аюму Каримата, первый автор исследования. — Мы доказали обратное, открывая широкие возможности в материаловедении без сложного проектирования кристаллов".
Это прорыв расширяет горизонты для инновационных приложений!
Учёные впервые испытали препарат, способный замедлить болезнь Хантингтона, нашли способ обнулить группу крови донорской почки и провели крупнейшее в истории исследование генетики депрессии. Разбираемся, что именно сделали исследователи и почему это важно.
Начнём с болезни Хантингтона. Это страшное нейродегенеративное заболевание. Симптомы включают в себя непроизвольные движения (хорею), подёргивания рук и ног, гримасничанье, агрессию, тревожность, нарушения мышления, памяти, когнитивных функций, а в итоге — полную утрату дееспособности. Это заболевание генетическое, хотя симптомы начинают проявляться обычно в возрасте 30–50 лет. Только представьте, каково это — узнать в молодости, что такое с тобой неизбежно случится в зрелости. Ужас. Вот Реми Хэдли, «тринадцатая» из «Доктора Хауса», долго не хотела узнавать, есть у неё этот диагноз или нет — и понятно почему.
Причина болезни — образование токсичного белка хантингтина, который постепенно убивает нервные клетки мозга. Лечения нет. Но попытки его создать ведутся. Учёные разработали особую генную терапию, которая вводится прямо в мозг. Да, там сверлятся дырки в черепе. Терапия представляет собой оболочку вируса, в которой помещён ген, кодирующий маленькую микроРНК — молекулу, способную выключить патогенный ген.
Ранние попытки использовать похожий подход провалились: лекарство вводили в спинномозговую жидкость. Но среда в ней агрессивна по отношению к маленьким РНК, поэтому методику изменили для большей эффективности. В этот раз, хоть выборка и была небольшой, удалось снизить темпы ухудшения ряда когнитивных способностей на 75%. То есть болезнь прогрессировала, но меньше.
Конечно, это ещё не абсолютное доказательство эффективности, но у сотен тысяч ранее обречённых людей внезапно появилась небольшая, но надежда. И всё благодаря науке. Будем наблюдать!
Надежда появилась и у многих людей, нуждающихся в почке. Органы можно пересаживать людям только если у донора подходящая группа крови, иначе случится острое отторжение. Это, конечно, затрудняет поиски нужного органа. Но что, если группу крови органа можно изменить?
Группа крови определяется особыми молекулами — антигенами, которые бывают двух типов: А и В. Если антигенов нет, получается группа крови 0, подходящая всем. Люди с группой крови 0 являются, поэтому, универсальными донорами.
И вот учёные из Канады и Китая придумали, что можно удалить А- и В-антигены с помощью особых ферментов, технически превращая орган в орган группы 0. Для испытания они взяли и пересадили такую искусственно лишённую антигенов А и В почку пациенту с мёртвым мозгом — видимо, чтобы не жалко было в случае чего. И увидели, что резкого отторжения нет.
Звучит как очень многообещающая технология!
Я очень надеюсь, что такие позитивные новости из науки помогают вам не грустить. В мире, увы, много поводов для депрессии. Вот и её учёные активно изучают. И оказывается, что у депрессии есть вполне ощутимая генетическая компонента: да, некоторые люди больше склонны к депрессии, чем другие. В частности, кстати, женщины больше подвержены ей, чем мужчины.
И вот учёные взяли почти 500 тысяч человек — с депрессией и без, мужчин и женщин — и проанализировали их ДНК. Нет, какого-то одного «гена депрессии» они, разумеется, не нашли. Вряд ли всё было бы так просто. Но они нашли аж 16 генетических вариантов, влияющих на риск депрессии. Один из вариантов был ранее неизвестен и располагался на Х-хромосоме. Поиск таких генетических вариантов важен, потому что от генетики человека может зависеть ещё и эффективность лечения.
Это не новость, но известны генетические варианты, влияющие не на риск депрессии, а, например, на эффективность и побочные действия антидепрессантов. Поэтому то, что работает с одним человеком, может работать хуже или не работать с другим. Именно поэтому психиатры часто подбирают нужные лекарства, а теперь — иногда и с учётом индивидуальных генетических особенностей пациентов.
Чем больше мы знаем о депрессии, тем легче будет с ней бороться. Вот ещё один способ, которым наука сможет поднять нам настроение!
Подписывайтесь на соц. сети:
Мой авторский цикл лекций
Еду в осенний тур с лекцией «Радикальное продление жизни»
Билеты и подробности — здесь.
«Нормисы» — один из социальных трендов последних лет. Это люди, которые строят свою жизнь на проверенных временем правилах и получают удовлетворение от привычного распорядка. Кто они и в чем их особенность — рассказали ученые Пермского Политеха.
Понятие «нормис» происходит от английского слова «normie», что переводится как «нормальный, обычный человек». Впервые встречается в этом значении в английском языке в 1950-х годах. За рубежом в интернет-сленге его начали употреблять еще в 2000-х годах, а в русскоязычном интернет-пространстве оно появилось примерно в конце 2010-х.
Термин отражает растущее противопоставление между «обычными» людьми и представителями различных субкультур. Используется обычно для ироничного обозначения обывателя, ведущего конформный (то есть приспособленческий, следующий за большинством) образ жизни. Для такого человека следование традиционным нормам и ценностям — это не вынужденная позиция, а проявление личного выбора. Его не интересуют узкие интернет-тренды, которые быстро приходят и уходят. Вся его жизнь наполнена работой, семьей, друзьями и заботой о собаке, а вечера он проводит за просмотром сериалов.
Отличить нормиса можно по ряду внешних и поведенческих признаков, которые формируют его узнаваемый образ. Прежде всего, это стремление к строгому соответствию неким усредненным социальным стандартам.
— Его одежда, как правило, лишена ярких деталей и заявки на индивидуальность, предпочтение отдается масс-маркету и практичным, не привлекающим излишнего внимания вещам. В общении он стремится избегать конфликтов и находить компромиссы, что проявляется в обращении к общепринятым мнениям, дистанцировании от категоричных позиций и острых дискуссий, во многом способствуя стереотипизации коммуникации. Его жизненные цели обычно сводятся к стабильности и комфорту в рамках традиционной парадигмы: стандартная карьера, семья, потребительские блага, отдых по установленным канонам, — рассказывает Михаил Ермаков, заведующий кафедрой «Фундаментальные и гуманитарные дисциплины» Когалымского филиала ПНИПУ, кандидат социологических наук.
Главная же черта, выдающая нормиса, — это недоверчивое отношение ко всему, что выходит за рамки его привычной картины мира.
— Новые, нестандартные или сложные идеи вызывают у него не интерес, а скорее настороженность или даже отторжение. Его жизненная позиция часто определяется принципом «живи как все» и «будь как все». То есть, это не просто среднестатистический обычный человек, а тот, кто сознательно или бессознательно стремится раствориться в массе, избегает яркой идентичности и, в определенной степени, личной ответственности, находит утешение в предсказуемости и одобрении большинства, — объясняет Юлия Неверова, старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.
Отдельного внимания заслуживает распространение этой философии среди людей старше 35 лет. Ученые объясняют этот феномен «омоложением протеста» в современной культуре.
— Чем раньше современный человек начинает взаимодействовать со средствами массовой коммуникации, тем раньше у него зарождается потребность проявить себя — и тем раньше наступает «усталость» от постоянного самопрезентования. Для многих людей к 35 годам и после нормисность становится намеренным выбором в пользу стабильности, психологического комфорта и сохранения ментального здоровья, что особенно актуально в условиях выгорания и возрастных кризисов, — делится Михаил Ермаков.
На вопрос, появились ли нормисы недавно или существовали всегда, ответ однозначный.
— Здесь не стоит говорить о том, что появились какие-то новые люди или их группы, или философия. Скорее, стоит вести речь о распространении данного термина с вполне конкретным смысловым оттенком (коннотацией). Просто появилось новое обозначение старого явления, — комментирует Юлия Неверова.
Отличается ли современный представитель от своих предшественников в 80–90-х годах? Безусловно, и в первую очередь — своим положением в обществе потребления. Если раньше «обычность» была часто вынужденной позицией в условиях дефицита и ограниченного выбора, то сегодня это одна из многих соревнующихся моделей поведения.
— Такие люди живут в условиях изобилия возможностей для самовыражения, и их выбор в пользу консервативного стиля — это добровольная и твердая позиция. Несмотря на перестановку и переопределение образов «своих» и «чужих», «правильных» и «неправильных», «нормисов» и их оппонентов «альтов», в культуре всегда остается повод для конкуренции, являющейся мощнейшим стимулом, побуждающим человека действовать. Сегодня быть «нормальным» — значит занимать определенную рыночную нишу, что культура и экономика только приветствуют, — отмечает кандидат социологических наук Михаил Ермаков.
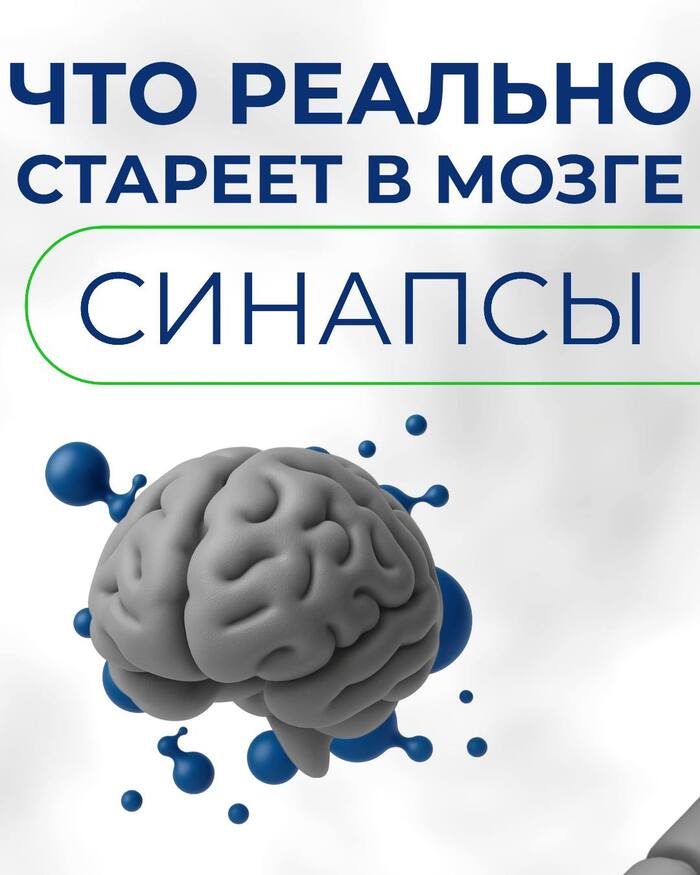

Вы стараетесь жить в режиме, концентрируетесь — но память всё равно утекает. Код не идёт, мысли путаются, задачи зависают... Знакомо? Это не просто усталость.
Причина в том, что чем старше вы становитесь, тем больше теряет ваш мозг не энергию, а связи — синапсы между нейронами. Меньше связей → слабее память, внимание, скорость мышления.
А если добавить хронический стресс, бессонные ночи и дефицит магния —нервная система буквально перегревается.
Магний важен для мозга не меньше, чем для мышц.
Обычные формы магния плохо проходят гематоэнцефалический барьер. А вот Магний L-треонат проходит. Его молекула соединена с L-треоновой кислотой, которая помогает магнию проникать в нейронные ткани и повышать уровень Mg²⁺ в мозге.
Магний L-треонат восстанавливает баланс магния в нейронах, а также…
😀улучшает передачу сигналов между клетками мозга
😀снижаете нейронную «возбудимость» — меньше тревоги, легче фокус
😀усиливаете синтез ключевых нейромедиаторов — GABA, дофамина, серотонина
Результат — устойчивое внимание днём и глубокое восстановление ночью. Мозг не «проседает» к вечеру, а восстанавливает синапсы во сне.
А если хотите реально узнать подробности о работе нервной системы, присоединяйтесь к нашему Telegram каналу и группе ВКонтакте. Будет интересно!
Десятилетиями учёные подозревали, что голоса, которые слышат люди с шизофренией, могут быть их собственным внутренним диалогом, который «немного сбился». Но теперь у нас есть данные, полученные в ходе анализа мозговых волн. И они наглядно показывают, как происходит этот сбой в нюансах самоконтроля.
Согласно давней теории, слуховые вербальные галлюцинации у людей, страдающих шизофренией, возникают из-за того, что мозг ошибочно принимает внутреннюю речь человека за внешний голос. Это происходит из-за сбоя в механизме, называемом коррелярным разрядом. Задача этого механизма в том, чтобы объяснять мозгу: «это я сам вызвал этот звук».
Новое исследование, проведенное совместно Университетом Нового Южного Уэльса (UNSW) в Сиднее и Китайским университетом Гонконга (CUHK), проверило эту теорию, используя записи активности мозга. Это помогло выяснить, возникают ли слуховые галлюцинации у людей с шизофренией из-за неправильной атрибуции внутренней речи.
Сама идея живет уже 50 лет, но её очень сложно проверить, поскольку внутренний диалог по своей сути остается глубоко личным и субъективным. Как его измерить? Один из способов — использовать ЭЭГ, регистрирующую электрическую активность мозга. Хоть мы не слышим внутренний диалог буквально, мозг всё равно реагирует на него, и у здоровых людей использование внутреннего диалога вызывает изменение активности мозга, отличимое от разговора вслух. Но у людей, которые слышат голоса, такого изменения активности не происходит. На самом деле, их мозг реагирует на внутренний диалог ещё сильнее, как будто голос исходит от кого-то другого. Это может помочь объяснить, почему голоса кажутся такими реальными.
Соруководитель и соавтор исследования, доктор философии Томас Уитфорд, профессор Школы психологии Университета Нового Южного Уэльса.
А для тех, кто хочет разобраться подробнее в феномене «прилипчивых песен», «внезапных жутких мыслей», природе того как протекает внутренний диалог – рекомендую огромный перевод трехчасового подкаста двух докторов нейробиологии. Так сказать, разбор внутреннего диалога до последнего слога!
Участников набирали в Австралии и Гонконге, а их диагнозы были подтверждены с помощью стандартных психиатрических интервью. Исследователи набрали в общей сложности 142 человека, разделив их на три группы:
55 пациентов с шизофренией или связанными с ней расстройствами шизофренического спектра, которые уже слышали голоса.
44 пациента с шизофренией, которые не слышат голосов.
43 здоровых участника контрольной группы.
Участники наблюдали за движущейся линией на экране, которая подсказывала им, когда нужно «произнести» про себя слог «ба» или «би». В тот же момент в наушниках воспроизводился звук «ба» или «би».
Были протестированы три условия: совпадение – внутренние и внешние слоги были одинаковыми, несовпадение – внутренние и внешние слоги были разными, и пассивное состояние – участники только слушали без побуждений внутренней речи.
Активность мозга регистрировалась с помощью ЭЭГ с упором на определенный паттерн мозговых волн, называемый компонентом N1. Это маркер реакций слуховой коры на звуки. Обычно, когда мы говорим (даже молча), наш мозг снижает свою реакцию на ожидаемые звуки. Это называется «подавлением, вызванным речью» (SIS). Исследователи хотели выяснить, как срабатывает этот механизм у людей, слышащих голоса.
В группе здоровых людей контрольной группы мозг ожидаемо подавлял реакцию на звуки. А именно, демонстрировал более слабую реакцию N1 при совпадении внутренних и внешних слогов (эффект внутренней SIS). Простыми словами, их мозг правильно распознавал фразу «Я произнёс этот звук», поэтому слуховая реакция была ослаблена.
У людей с шизофренией, испытывавших слуховые галлюцинации, наблюдался противоположный эффект: усиление. Когда их внутренняя речь совпадала с внешним звуком, их мозг демонстрировал более выраженную реакцию N1, как будто звук был более неожиданным. Это означало, что их мозг не распознавал звук как собственный, что потенциально приводило к путанице между внутренними мыслями и внешними голосами. У шизофреников без слуховых галлюцинаций также не наблюдалось нормального паттерна подавления. Вместо этого у них наблюдалось частичное нарушение, в меньшей степени, чем у людей с галлюцинациями.
Короче говоря, здоровый мозг подавляет реакцию на собственную речь, как устную, так и воображаемую. Мозг больных шизофренией, особенно у людей, слышащих голоса, не подавляет, а иногда даже усиливает эту реакцию. Это может приводить к тому, что внутренне генерируемые мысли – «внутренние голоса» – воспринимаются как исходящие извне, что объясняет слуховые галлюцинации.
Эта теория всегда была правдоподобной — что люди слышат собственные мысли, но словно озвученные кем-то извне, — но этот новый подход предоставил самую сильную и прямую проверку этой теории. Подобный показатель, весьма вероятно, может стать биомаркером психоза. В конечном счёте, я думаю, что понимание биологических причин симптомов шизофрении — это необходимый первый шаг, если мы надеемся разработать новые эффективные методы лечения.
Соруководитель и соавтор исследования, доктор философии Томас Уитфорд, профессор Школы психологии Университета Нового Южного Уэльса.
Несмотря на некоторые ограничения, в том числе то, что у некоторых участников, не испытывавших галлюцинаций, в прошлом наблюдались галлюцинации, поэтому полное разделение групп не было идеальным, и то, что исследователи не различали различные типы галлюцинаций, результаты исследования клинически важны.
Они могут помочь выявить лиц с риском развития психоза до появления симптомов. Такие методы лечения, как нейробиоуправление, стимуляция мозга или целевая когнитивная тренировка, могут быть направлены на усиление или восстановление нормального функционирования корригирующего разряда. Кроме того, как отмечают исследователи, «подавление внутренней речи» может само по себе служить биомаркером.
Традиционно, больше материалов про мозг, психику и сознание вы найдете в сообществе Neural Hack. Заглядывайте, чтобы держать под рукой ключи к здоровью мозга и продуктивности!