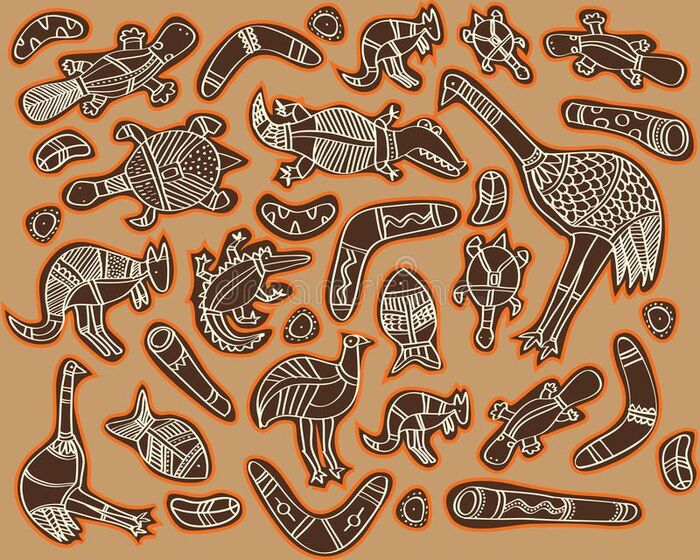В начале мы указывали, что коренные жители Австралии считаются наиболее примитивными среди всех народов Земли. Чем можно обосновать такое явление? В разные периоды предлагались различные гипотезы: удалённость от центров цивилизации; хроническая нехватка еды; особенности климата; отсутствие пригодных для культивации растений; неимение опасных хищников (поскольку они, по мнению некоторых, стимулируют ускоренное совершенствование ремёсел для создания орудий защиты и сплачивают людей против угроз). Один исследователь из Австралии, стремясь осмыслить примитивность местных жителей, отметил, что их низкий уровень культуры связан с тем, «что нельзя выращивать колючую траву и доить кенгуру». Все эти предположения опираются исключительно на материалистические интерпретации исторического пути народов. Однако обратимся к тому, как сами учёные-марксисты в недавние годы оценивают свои прежние концепции. Профессор Фредерик Роуз из ГДР (Роуз Ф. Аборигены Австралии, М, Наука, 1981, с. 23) указывает: «Естественно, что нельзя культивировать колючую траву. Но в Австралии росли другие виды съедобных растений, которые могли возделывать аборигены, такие, например, как корни ямса. В больших количествах произрастает на обширных низменностях многочисленных северных рек дикий рис. Аборигены употребляли его в пищу, но основную часть поедали птицы. Никто не пытался убирать рис и сохранять его, как это делали «народы — собиратели урожая» в Северной Америке… Консервирование продуктов, как предпосылка для перехода аборигенов к оседлому образу жизни и производству избыточного производства, применялось очень редко и было крайне примитивным». Далее он добавляет (там же, с. 25): «Согласно широко распространенной, но ошибочной концепции, австралийские аборигены всегда находились под угрозой голода и были вынуждены постоянно заниматься поисками средств к существованию. Это противоречит истине. Аборигенам нужно сравнительно мало времени для того, чтобы обеспечить себя пищевыми продуктами. Дж. Грей, который в 30-х годах проводил исследования среди аборигенов, заметил, что они в любое время года за два-три часа могли обеспечить себя достаточным количеством пищи на весь день. Обычно аборигены — если они постоянно жили в буше — имели более чем достаточный запас продуктов питания». Таким образом, обладая всеми предпосылками для прогресса в хозяйстве, местные жители потребляли червей-кобра, добываемых из древесных стволов, а также бабочек богонг. Примечательно, что тасманийцы, близкие родственники австралийских аборигенов, к прибытию европейцев не владели даже навыками рыбной ловли (там же, с. 28). Была опровергнута и идея полной изоляции австралийцев. Тот же Роуз подчёркивает (там же, с. 22): «Австралия, несомненно, испытывала культурные влияния извне. Изменения каменной индустрии…, весьма вероятно, обязаны отчасти внешнему воздействию… [Но] Почему аборигены, несмотря на влияние извне, не совершили качественного перехода от сообщества охотников и собирателей к иной хозяйственной деятельности — производству пищевых продуктов?». Марксистские учёные не нашли ответа на этот вопрос. Их материалистические подходы к объяснению примитивности племён оказались несостоятельными; равно как не удалось разрешить загадки: почему плотность населения была столь малой, если аборигены тратили на поиск пищи всего несколько часов в сутки, а рождаемость оставалась высокой; почему при разнообразии экологических зон по всей Австралии преобладали идентичные формы производства и социальных связей (там же, с. 15).
Почему? Почему? Почему? Удивление учёных усилилось, когда выяснилось, что аборигены Австралии не всегда были столь примитивны. В древние времена они достигали гораздо большего уровня. Недавно установлено, что у этого народа «существует богатейшая сокровищница мифов и легенд, изумительное искусство, «многостепенная» система родства» (Кондратов А. Земля людей — земля языков, М, 1974, с. 113). «Столь же интересными и сложными оказались и языки пятого материка. А ведь полагали, что австралийцы обходятся несколькими сотнями слов! Словари наиболее изученных австралийских языков включают несколько тысяч слов, не считая многочисленных форм, которые образуют склонения и спряжения частей речи. Причем в этой области языки пятого континента бывают намного сложней любого европейского языка. Есть язык, где число форм одного глагола может доходить до девятисот» (там же, с. 113). Сложность языковых структур свидетельствует о былой высокой культуре, указывая, что народ не всегда пребывал в диком состоянии. Археологические находки на Тасмании также информативны. «Хозяйство тасманийских аборигенов считается менее развитым, чем австралийских. Однако и здесь археологические раскопки приносят интересные открытия. В верхних (молодых) археологических слоях не были обнаружены останки рыб, о чем говорят и наблюдения современников в прошлом столетии. Но в последующих (более древних) слоях рыбьи кости попадались часто. Предки аборигенов по прибытии в Тасманию… ловили рыбу и употребляли ее в пищу, но в последующее время прекратили это занятие» (Роуз Ф. Аборигены Австралии, М, Наука, 1981, с. 28). Обнаруживают следы древних ирригационных систем, заброшенных последующими поколениями. Зафиксирована и деградация духовных идей от древности к XVIII веку (подробнее см. ниже) (Schmidt W. Der Ursprung der Gottesidee. Munster, 1912, BI, S 216-221). Крупные раскопки в Австралии ещё не проводились, но уже ясно: в далёком прошлом австралийцы достигли высшей ступени, а затем по неизвестным причинам произошёл упадок, приведший к полуживотному существованию к моменту контакта с европейцами. Именно к прибытию европейцев, поскольку часто ошибочно полагают, будто колонизаторы прервали их развитие. На деле племена уже деградировали задолго до того. Капитан Джеймс Кук отмечал, что 22 апреля 1770 года корабль «Индевор» приблизился к берегу, где виднелись полностью обнажённые люди. При высадке 29 апреля путешественники зафиксировали самую низкую культуру из всех встреченных. Аборигены игнорировали европейские предметы, обычно привлекавшие островитян, не понимая их назначения и не используя украшения (Кук Д. Первое плавание капитана Джеймса Кука. Плавание на «Индеворе» в 1768-1771 гг., М, Географиз, 1960). Ни одна материалистическая теория не разъяснила крайнюю отсталость и культурный регресс. Тогда исследователи, включая материалистов, обратились к религии и мировоззрению аборигенов. Основой их верований был тотемизм (Элькин А. Коренное население Австралии, М, 1952, Г. VI), то есть убеждение в мистической связи между группой людей и объектами природы (чаще животными). Тотем выступал предком рода, его защитником, с которым поддерживалась магическая связь; человек считался его воплощением, но без обожествления. Тотемами служили кенгуру, опоссум, дикая собака, змея, летучая мышь, личинки насекомых и прочее. У племён с таким тотемом запрещалось убивать и есть это существо. С тотемизмом связана вера в чуринги — священные изделия из камня или дерева с рисунками или надписями (там же, с. 169). Чуринги имели мистическую связь с тотемом, оберегая племя. «Чуринга — это живое существо. Это совсем не кусок дерева или камня, это нечто совсем иное. Чуринга интимно связана с предком, она испытывает чувства, подобно нам: эти чувства или эмоции можно успокаивать, поглаживая чурингу рукой» (Леви-Брюль. Указ. соч., с. 60). К прибытию европейцев храмов не было; вместо них существовали тотемические центры — скалы, ущелья, деревья с тайниками для чуринг, где проводились ритуалы. Тотемизм порождал суеверия. Аборигены считались одними из самых суеверных, приписывая беды колдовству. «Даже если смерть произошла от очевидной причины (например, человека придавило деревом), они все равно считают, что настоящий виновник несчастья — какой-нибудь тайный враг. Поэтому у австралийцев был обычай после всякой смерти устраивать особые гадания, чтобы узнать, в каком селении живет враг, околдовавший умершего. И тогда к этому племени посылался отряд мстителей, убивавший предполагаемого виновника или кого-то из его сородичей… Вера в силу порчи была так сильна, что жертва порчи [найдя у себя орудия колдовства] сразу теряла дух, впадала в апатию и вскоре умирала!» (там же, с. 53-54). У отдельных племён действовали колдуны раггалки и мулунгувы, специализирующиеся на вредоносной магии (Локвид Д. Я — абориген, М, 1971, с. 111-129). Шаманы обладали значительной властью, вступая в контакт с духами, вселявшимися в них. Аборигены рассказывали об «ирунштаринии»: дух вынимал внутренности избранника и заменял новыми, вызывая полное перерождение (Элькин А. Коренное население Австралии, М, 1952, с. 219). (О шаманизме подробнее в статье о сибирских народах.) Вера основывалась на магии, ритуалы подразумевали общение со злыми духами, по сути — служение дьяволу. У тасманийцев был ночной злой дух Наима или Раэго-Раппер, виновный во всех бедах (Lind-Roth H. The aborigines of Tasmania, L, 2d. ed, 1899, p. 55). Обряды были жестокими: инициация включала «особым мучительным испытанием… нанесением порезов на теле (рубцы оставались на всю жизнь), выбивание переднего зуба, выщипывание волос… даже поджаривание на костре» (Токарев. Указ. соч., с. 59-60). Молитв не существовало, только заклинания (там же, с. 63). Магия и оккультизм сеяли страх, подчиняя людей одержимым колдунам и шаманам. Но магия тормозила не только дух, но и экономику с культурой. Тотемизм утверждал неразрывную связь человека с природой, блокируя прогресс. Сохранившиеся первобытные сообщества демонстрируют, как магические идеи удерживают общества в стасисе. «Коллективные представления» с табу, ритуалами и традициями формируют жизнь австралийца, папуаса, зулуса. Вера влияет на общество сильнее, чем кажется. Магизм создавал образ мира как завершённого единства материи и духа, круговорота богов, людей, существ и стихий в иерархии. В ритуалах человек подражал природе, сливался с ней через тотемизм. Жизнь становилась совершенным священнодействием; страх нарушить космический порядок парализовал творчество, ставя жёсткие барьеры (Светлов Э. Магизм и единобожие, Брюссель, Жизнь с Богом, 1971, с. 86-87). Даже марксисты признали: магия препятствовала развитию. «Аборигены всегда точно представляли себе, какие пригодные в пищу растения и каких животных они могут найти в то или иное время года. Однако эти знания носили статический характер: после того, как они однажды получили их от старших, субъективно уже не было места для накопления новых знаний. В этом и заключалось основное различие между их и нашей теорией познания. В то время как наши знания постоянно находятся в процессе развития и расширения, у аборигенов они, напротив, остаются неизменными и устойчивыми. Они считали себя слитыми со своей землей и с природой, и не имели никакого представления о прогрессивных изменениях» (Роуз Ф. Аборигены Австралии, М, Наука, 1981, с. 51-52). Колдунам было удобно контролировать примитивное сообщество, служа инструментами бесов. Наркотики вроде питури (Duboisia Hopwoodii) одурманивали разум. Религия объясняет низкую плотность населения: преобладал полигинно-геронтократический брак, где старики брали молодых девушек. Старейшины, обладая властью, удовлетворяли похоть. Культ плодородия с оргиями возводил грехи в ранг духовного; больше совокуплений — больше урожая. Низкий духовный уровень усиливает инстинкты, как в древних Ассирии, Вавилоне, Риме или сегодня. Старики забирали молодых женщин, оставляя взрослым мужчинам старых, неспособных к деторождению.