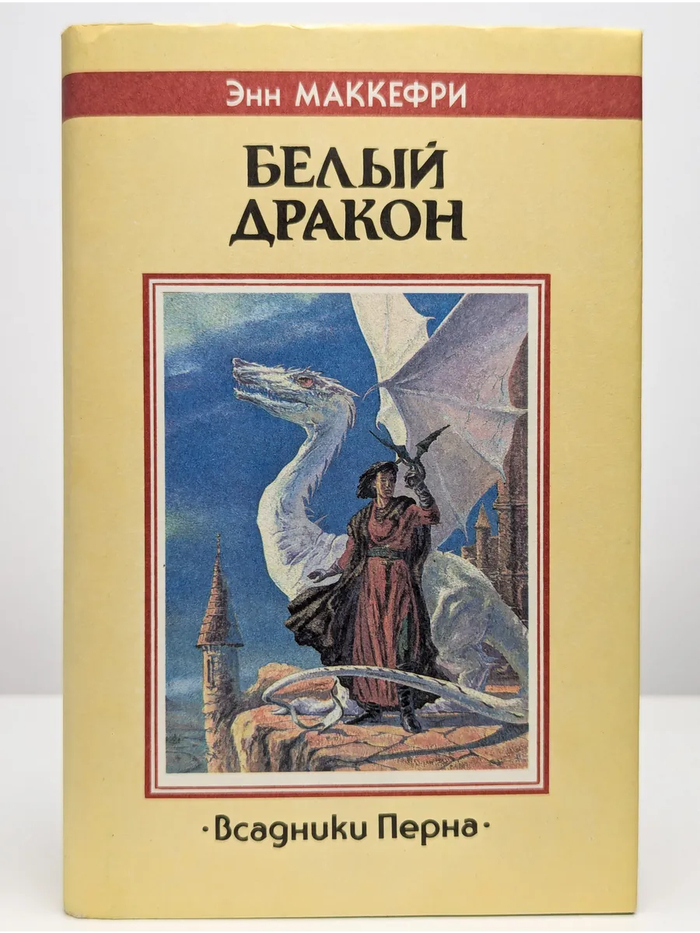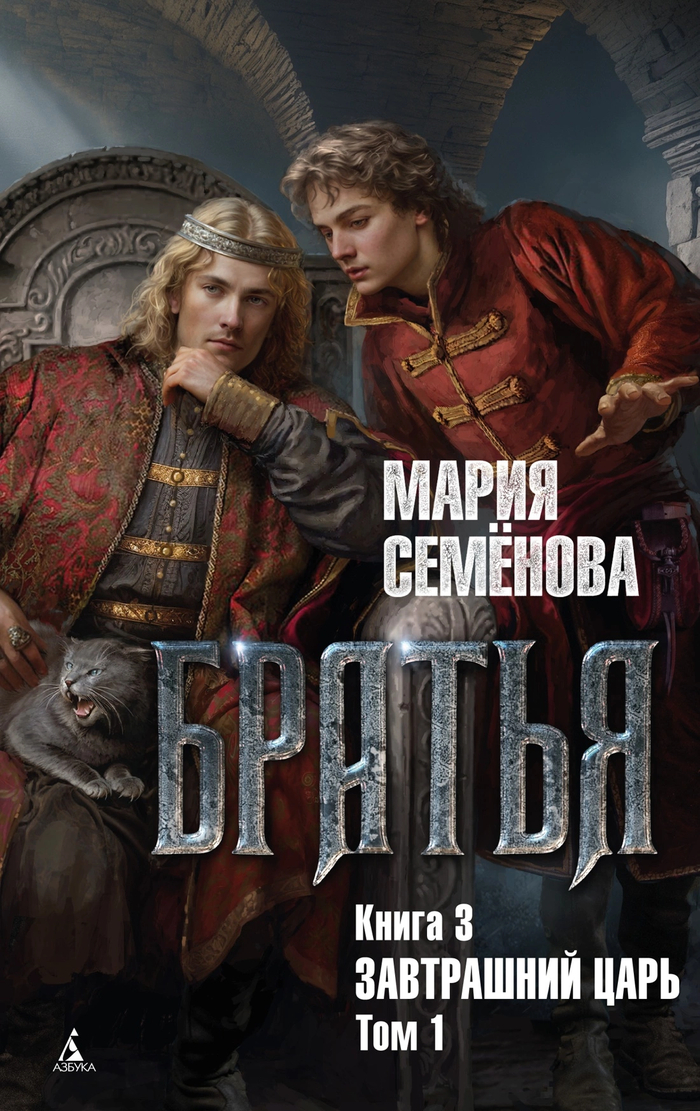Как создать свой фэнтези мир часть 8
О языках
Ох уж эти начинающие писатели… с горящими глазами, с жаждой поразить мир своим талантом. Самая свежая мода – выдумать собственный язык для своего мира. Будто бы без него нельзя построить правдоподобную вселенную, будто бы никто из выдающихся писателей раньше этого не делал. Позволю себе заметить: большинство из них терпят фиаско, а их творения выглядят как жалкая пародия на настоящий язык.
Понимаю, искушение велико. Кажется, что придуманный язык придаст произведению глубину, экзотичность, неповторимость. Что это – ключ к признанию, гарантия того, что вас запомнят и будут превозносить. Но предлагаю взглянуть на ситуацию более трезво.
Во-первых, если вы не лингвист, если изучение грамматики и фонетики не приносит вам истинного наслаждения, если вы не способны отличить глупый новояз от органично вплетенного в ткань повествования диалекта – не лезьте в это. Не мучайтесь. Забудьте. Иначе рискуете создать нечто настолько громоздкое и неестественное, что даже самые преданные читатели потеряют к ней всякий интерес.
Разработка полноценного языка, позволяющего передавать хотя бы элементарные идеи и эмоции, – задача невероятно сложная. Это потребует огромного количества времени и усилий. Тысячи часов работы, тысячи новых слов. Грамматика, синтаксис, морфология... Подумайте только! А знаете, сколько людей оценят ваши труды? Пытались подсчитать? Не более одного процента. От всей вашей аудитории. И если у вас всего сотня поклонников… то радуйтесь, что ваша мать ещё не бросила вас. Она, конечно, всё равно будет читать. Только после прочтения, скорее всего, спросит, когда вы приступите к поиску более стабильной профессии.
Во-вторых, вы должны помнить, что, несмотря на весь проделанный труд с созданием мира, лишь небольшая часть, примерно 3-5%, найдет свое отражение непосредственно в тексте произведения. Остальное останется погребенным под грузом черновиков, заметок и самодовольной уверенности в собственной гениальности.
И вот вы, вместо того чтобы писать о драконах или эльфах, усердно конструируете грамматику для племени гномов Кхузбарада. Составляете словари на сотню страниц, изобретаете падежи, спряжения... А зачем? Чтобы потом в романе упомянуть пару новых слов? Чтобы читатель, запутавшись в ваших лингвистических изысканиях, бросил книгу и пошёл читать что-нибудь понятное?
Не будьте безумцами. Если уж так случилось, что вас обуяло это желание – ограничьтесь двумя-тремя десятками слов. Да, именно. Двадцать слов. Этого хватит, чтобы намекнуть на чуждость мира, на его глубину, на его тайны. А там, если повезёт, если ваша история зацепит читателя, если она превзойдёт ожидания издателей, тогда уже можно и язык развивать. Но не раньше. Не стоит строить башню до небес, а потом наблюдать, как ваша аудитория разбредается по разным уголкам света.
В-третьих, прошу не забывать: мир – штука сложная. Он устроен не для того, чтобы потакать вашим амбициям. Если вы создаёте мир, населённый людьми и вашими героями являются люди, то не стоит менять все имена и понятия. Оставьте привычными названия вещей, дней недели, месяцев. Зачем изобретать колесо, если оно уже существует? Зачем называть секунду «сунькой», минуту – «минькой», а часы – «чуньками»? Это же чистейшая безвкусица, достойная лишь писателей, стремящихся удивить читателя количеством слов в глоссарии, а не глубиной сюжета. Им я желаю удачи в их самолюбовании и пустой графомании.
Такие изыски уместны разве что в случае взаимодействия ваших героев с теми, кто оторван от общего потока времени и культуры. Представьте себе племя, живущее в глухой пещере, которое веками избегало контактов с цивилизованным миром. У них могут быть свои странные наименования, основанные на обрядах или природных явлениях. В этом случае язык станет частью мира, отражением его истории и культуры. Но это скорее исключение, чем общее правило.
В-четвёртых, даже если вы решились на создание языка (а я не советую), помните о правдоподобии. Язык – это не набор случайно подобранных звуков. Он подчиняется законам фонетики, грамматики, семантики. Игнорировать эти законы – значит построить песочный замок, который смоет при первом приливе.
Не пытайтесь создать «новый язык» с нуля. Лучше возьмите существующий язык как основу и слегка модифицируйте его. Создавайте диалекты, говоры, жаргоны, придумайте собственные грамматические конструкции. Но делайте это осторожно, чтобы язык оставался узнаваемым и понятным читателю. Помните, цель – не запутать, а добавить колорита и глубины миру вашей истории.
И последнее, но не менее важное: если уж вам так приспичило создать новый язык, то слушайте мой совет – и не смотрите на меня с подозрением, ибо знаю я толк в языках, хоть и предпочитаю говорить на том, который понимают все. Начните с поэзии. Да, именно с неё. Не спешите сразу писать словари и конструировать правила синтаксиса. Возьмите стихи. Стихи Пушкина, например. Или Лермонтова. Или того хуже – какие-нибудь романтические баллады о потерянной любви эльфов. И переведите их.
Не просто механически заменяйте слова, а почувствуйте ритм, мелодию, дух оригинала. Попытайтесь передать красоту и глубину чувств, заключённых в строках, используя ту грамматическую основу, которую вы выбрали для своего нового языка. Помните, язык – это не только набор правил, но и музыка.
Если ваш эльфийский аналог «Я помню чудное мгновенье» не будет звучать как прощание умирающей звезды, если он не вызовет у слушателя дрожь по спине и желание броситься в объятия любимой (или ненавистной) нимфы – то забудьте об этом языке. Это пустая трата времени и сил. Но если в нём промелькнет та же искра, тот же отблеск истины... тогда, возможно, вы справились.
P.S.
Итак, данный ряд публикаций завершён. Если у вас остались вопросы или возникло желание узнать больше о темах, соответствующих направлению моей работы, пишите, буду рад ответить.
А всем прочим желаю всего наилучшего!
МОСТ ЧЕТЫРЁХ ВЕТРОВ | Дана Арнаутова | Аудиокнига | ФЭНТЕЗИ | МИСТИКА | HORROR
Аудиокнига "Мост четырёх ветров", автор Дана Арнаутова, читает Андрей Зверев История о приключениях молодого некроманта. Страничка автора https://vk.com/arnautova_dana
Прогулки по деревне «Лимерш-пласс»
Старая дорога выходит к воде и почти сразу растворяется в гальке и тине: здесь начинается деревня, построенная полукольцом вокруг озера. Узкие, наслоенные веками пирсы тянут в воду дубовые пальцы, доски пахнут рыбой, каменноугольной смолой и холодной ржавчиной.
В вечернем воздухе слышно, как где-то за амбаром пыхтит меховая помпа, гоняя пар по железным кишкам солеварни, а трубы попеременно шепчут и выплёвывают сизые клубы дыма. Масляные лампы в оконцах зажигаются одна за другой — придавая фахверковым старым домикам немного зловещий вид.
Озеро стареет вместе с деревней. Весной оно зацветает рытвинами льда, летом — зелёным мехом водорослей. Вода терпеливо принимает мусор и взгляды прохожих, унося их вместе с волнами к дальнему берегу, туда, где за туманной кромкой поднимается замок местного графа. Тёмный, с отлетающими сланцами крыши и неподвижным флагштоком, он стоит на пригорке, словно выколотый из цельного куска камня. Ночами его отражение вытягивается на полотне озера, словно пытаясь дотянуться до другого берега.
По улицам ветер гонит угольную пыль. Дома сидят низко, почти вжимаясь плечами друг в друга; белёные пролёты между тёмными балками уже давно потемнели от копоти и времени. На фронтонах — шестерёнчатые гербы цехов: варёная соль, копчёная рыба, плотницкий топор. Колодцы укрыты жестяными навесами, рядом — ящики с запасом фитилей, крюки для бочек, пустые бутыли из толстого стекла.
И так продолжалось годами. С одной стороны привычный набор бедняка. С другой — молчаливый каменный страж тусклого блеска богатого убранства в застеклённых залах, до которых не добраться. И плоская, тяжёлая гладь озера между ними.
«Чудеса — это не обязательно к королям и герцогам». Интервью с Марией Семёновой, автором цикла «Волкодав»
В 2025 году исполнилось 30 лет «Волкодаву» Марии Семёновой — книге, с которой началась история славянского фэнтези. Юрий Сапрыкин поговорил с писательницей о том, чем Волкодав отличается от Конана, что мы знаем о древних славянах и какое фэнтези интересно сегодня.
— Как вы впервые столкнулись с жанром фэнтези?
— Я советский ребенок, 1958 года рождения, выросла на соцреализме и советской фантастике. Стругацкие, Ефремов и далее по списку. Вообще, я по своим склонностям технократ, и про будущее, про космические полеты я читала просто с горящими глазами. В те времена для меня пиком достижений литературы была сцена посадки планетолета «Хиус» у Стругацких в «Стране багровых туч». Всё, это максимум, дальше не прыгнуть. Естественно, сама что-то пыталась кропать на эту тему — сейчас и смешно, и жутковато это вспоминать. Потом примерно в 1980 году я разыскала в Киеве единственный на весь город магазин, где продавали иностранные книги. И купила там пародию на «Властелина колец». И пока я ее читала, у меня все время было ощущение, что за этой смешной пародией таится что-то грандиозное.
Спустя еще некоторое время я пришла в комиссионный книжный, уже в Питере. Продавцы предложили мне «Хоббита» и первую книгу «Властелина колец». Я прочла и подумала: ого, оказывается, так можно! Это было погружение в атмосферу легенд и сказок, которые не просто собраны где-то в хрестоматии или сборнике фольклорном, а люди в этом мире живут, разговаривают, решают свои проблемы, и еще с приключенческим сюжетом. Когда я дочитала книгу в оригинале, я поняла, что просто умру, если тут же не прочту остальное. Единственным местом в Питере, где нашлось продолжение, была публичная библиотека. После работы я мчалась туда и читала, читала, читала. Ну а потом времена изменились, и фантастика и фэнтези стали для меня основными жанрами для чтения.
— А как вы попали в издательство «Северо-Запад»?
— Это был 1992 год. Научный институт, где я работала, стал таять, как мороженое под солнцем. Половину помещений сдали коммерсантам в аренду. Сотрудников одного за другим отправляли в неоплачиваемые отпуска. Примерно в это время я столкнулась в публичке со старым другом по литобъединению. Он меня поймал за пуговицу и говорит: «Маша, ты же знаешь английский?» Я говорю: «Ну да». «Издательство „Северо-Запад“ набирает переводчиков. Хочешь попробовать?» Я пришла домой, рассказала родителям. А родители у меня еще более старорежимные, чем я: мама была 1922 года рождения, отец — 1925-го. И мама пришла в ужас, а отец подумал-подумал и меня благословил. Вот так с 1 апреля 1992 года я перешла на литературные рельсы и с тех пор только этим и занимаюсь.
— А писательство вы начинали с исторических романов?
— Мою первую повесть, выхода которой я ждала девять лет, наверное, тоже можно отнести к фэнтези. Я развернула в историю одно сказание из «Старшей Эдды», добавила мистики. Там и бог Один приходит, и поинтереснее вещи происходят. Я просто проиллюстрировала то, во что люди тогда верили и что они в сходных обстоятельствах реально бы увидели. И дальше примерно в таком духе писала исторические романы.
И вот я пишу и вижу жуткую картину: к нам хлынул вал импортного фэнтези, причем довольно мутный. Писатели, которых мы в советское время считали великими на основании нескольких переведенных книг, оказались средненькими.
Переводы были жуткие. Кажется, переводить кинулись все, у кого в школе была хотя бы тройка по английскому. Иногда читаешь и просто не можешь понять фразу: вроде по-русски написано, а о чем это? Но это все разлеталось как горячие пирожки. Пришло что-то новое, чего мы в советские времена и близко не видели. Один Майкл Муркок чего стоил.
И на этом фоне я тоже вписываюсь в переводчики. Но мне доставались приличные книжки. Все-таки «Северо-Запад» — крупное издательство, откровенная чушь попадалась редко. Я рассказала им, что у меня есть и свои произведения. А мне: сиди переводи — кому нужны твои исторические романы? И тут я обнаруживаю, что отечественные авторы, причем не последние, например наша питерская Елена Хаецкая, вынуждены брать импортные псевдонимы и выдавать свои оригинальные творения за переводы. Глядя на это все, я просто взбеленилась: что ж такое-то? Без конца одно и то же — про эльфов, гоблинов и принцесс. Пережевывают по девяносто восьмому разу. Когда у нас у самих под носом колоссальный материал, просто сокровищница! Я уже имела представление о наших исторических и фольклорных богатствах, которые лежат никому не нужные. И в какой-то момент я сказала: не нужна историческая проза — ладно, будет вам фэнтези. И буквально в один присест написала первую главу «Волкодава».
— Насколько сложно было перейти от исторического жанра, который все-таки основан на фактах, к чистому фэнтези?
— В какой-то момент я начала понимать, что средствами классического исторического романа удается показать не всё. Как только ты начинаешь писать про то, как герои думают, во что они верят, это автоматически зачисляют в сказочную фантастику. То архаическое мышление, о котором я хочу рассказать, не помещается в рамки исторического романа. Ну черт с вами, сказала я, фэнтези так фэнтези. Какая разница, как это называется.
— Действие «Волкодава» происходит в вымышленном мире, в нем живут вымышленные племена. Но там чувствуется база: знание славянской истории и мифологии, вообще истории Северной Европы. Как вы это изучали? Это же были еще докомпьютерные времена.
— У меня был один из первых в Питере персональных компьютеров. Самодельный — я же недаром технарь. Я училась в Ленинградском институте авиационного приборостроения на факультете вычислительной техники, потом работала по специальности. И регулярно посещала черный рынок электронных деталей. То одно куплю, то другое — и собрала себе машину. На ней были сделаны многие переводы, а потом написан «Волкодав», по крайней мере начало. Выглядело это так: вокруг свисали провода, где-то копошились дисководы, тут стояла корзина с работающими платами, на полке — угловатый корпус размером с обувную коробку. Это был тогдашний писк техники — винчестер аж на пять мегабайт.
— Но за информацией все же приходилось идти в библиотеку?
— Это да. С «Волкодавом» было так: в одной библиотеке, где я выступала, отправляли на списание каталожные ящики. Один из них мне подарили в качестве гонорара. Мы с отцом привезли его домой на крыше нашего «Москвича». И к моменту написания «Волкодава» он был уже битком набит карточками, ссылками и выписками. Они были объединены в алфавитный каталог. Это же сколько штанов было просижено в той самой публичной библиотеке и не только в ней. И сейчас продолжается: меня книги уже выжили из городской квартиры, теперь из домика выживают. Но все равно приходится покупать, в электронном виде не всё есть.
— В «Волкодаве» практически нет архаизмов, слов, которые воспринимаются как древние. При этом сам строй языка, ритм, строение фразы как будто говорят, что ты имеешь дело с древним текстом. Как вы этого добивались?
— Менталитет проявляется и в языке тоже. Когда чуть-чуть приближаешься к пониманию древних людей, начинаешь чувствовать, что они фразу построили бы иначе. У меня есть и словарь древнерусского языка XI–XVII веков, и Срезневский, и Фасмер. Но все-таки основное — это Даль. Это просто кладезь слов, которые и сейчас понятны, а значит, очень хорошо работают на месте многих заемных. Например, мне было нужно слово, эквивалентное слову «мастер», которое пришло из немецкого языка. Что ему делать в произведении об условно-русском Средневековье? Я копаюсь в Дале и нахожу замечательное слово «источник». Но это не тот источник, который источает блага, а тот, который точит, источит, человек высшего профессионализма и мастерства.
— Интересно еще, как у вас передана древняя вера. Это не поклонение идолам, а особое отношение к природе как к чему-то одушевленному. Нужно поклониться дереву, сказать спасибо источнику.
— Есть то, что я для себя называю бытовой религиозностью. Я очень за этим слежу, когда пишу.
В фэнтези такого практически никто не делает, в результате остается только утилитарное: пришел, поел, ушел. А печке поклониться? А огню кусочек отщипнуть? Вот про это забывают.
— Вы рассказывали в интервью, что многие вещи в «Волкодаве» вам пришлось изучить на собственном опыте.
— Есть разные уровни постижения. Многие пишут, вообще не слезая с дивана. Следующий уровень — посмотреть ролик на «Ютьюбе». Дальше — все-таки почитать книжки. Есть академик Рыбаков, есть профессор Кирпичников, есть адепты Велесовой книги или вообще откровенные духовидцы, которые говорят: «Я так вижу Древнюю Русь». Надо критическую массу чтения накапливать, а у нас кто в лес, кто по дрова. А следующий уровень — это когда начинаешь на себе пробовать. Мы же видим, например, в книге о современной жизни, водит автор машину или нет.
— А как у вас было?
— Мои родители были учеными, и дома царил культ научной достоверности. Если ты что-то пишешь, внизу должна быть ссылка на конкретные книгу и страницу, откуда ты это почерпнул. На таком материале уже можно строить что-то свое. В художественной литературе подобных ссылок не ставят, но наличие или отсутствие у автора той или иной информации все равно торчит. И речь не только о книжном или музейном познании, но и о практических навыках.
Когда я поняла, что Волкодаву придется частенько драться, я посмотрела, какие бывают боевые искусства, и выбрала для себя айкидо. Оно мне показалось интересным с философской точки зрения. Твоя задача не искалечить или убить врага, хотя ты вполне можешь это сделать. Вместо этого ты демонстрируешь ему глубину его заблуждения, в чем он не прав с точки зрения гармонии мироздания. Я пришла взять несколько уроков, почерпнуть пару приемов… А в итоге четыре года корячилась на татами. Потом я поняла, что герой должен ездить на лошади. Деваться некуда — я отправилась на конюшню. Было еще страшнее, чем когда шла на боевые искусства. Мне было 38 лет. Это ребенок не понимает, что с лошади можно упасть и свернуть шею, что у нее 500 килограммов мышц и свои мысли в голове, а я вполне это понимала. Пришла и говорю: «Мне только узнать, как лошадку чистят и седлают, а верхом разве что пару уроков на корде». И тоже осталась на четыре года. Через препятствия прыгала, выездку осваивала, под копытами побывала. Все нормально.
— В первом издании «Волкодава» на обложке была надпись «Русский Конан». Понятно, что это была рекламная уловка. А вам как кажется, Волкодав похож на Конана-варвара или нет?
— Они очень разные. Волкодав — это совсем другой герой, другая история, другой менталитет. Я для себя это формулирую так: в мире Конана бабы рожают детей, чтобы те становились воинами и геройствовали на войне. А у меня в «Волкодаве» мужчины идут воевать и становятся героями для того, чтобы бабы могли спокойно детей рожать. «Русский Конан» — это была издательская уловка, сделанная без моего ведома. Прошло 30 лет, а я все от этой надписи отплеваться не могу.
— Там еще есть особая арка героя. Волкодав не просто воюет и побеждает врагов, он постепенно идет по пути постижения мудрости.
— Все начинается с того, что он на каторге оказался в компании невинно осужденного мудреца. И это не литературный прием, это то, что на своей шкуре прочувствовал мой дед, который 17 лет отсидел на Соловках и в Норильске. Он говорил: «Я с такими людьми там сидел..!» Заключенные академики, чтобы не скатиться в скотское состояние, читали сокамерникам лекции по своей специальности. Такие, что Оксфорд и Кембридж сдохли бы от зависти! Мне было интереснее про это написать, чем про уголовные разборки.
— Как появился нелетучий мыш? Наверное, самый симпатичный герой в этой книге. Говорят, есть люди, которые делали себе такие татуировки.
— Я очень люблю животных. Когда начинала работать над «Волкодавом», у меня еще никого не было, но очень хотелось. Я стала думать: у героя обязательно должен быть помощник, животное-спутник. Прекрасный конь, замечательная собака? Это и красиво, и мифологически оправдано. Но столько их уже было! Я задумалась: а кого он с каторги мог с собой вытащить? Активное животное, чтобы участие в его делах принимало? Вот так у меня покалеченный Мыш и образовался. Правда, потом я узнала, что у них порванные перепонки благополучно срастаются… Ладно, думаю, пусть будет фантдопущение!
Могучие харизматичные персонажи, реальные или литературные, — они ведь проверяются на безответных. Цена человеку — это как он с безответным будет поступать.
— А как появилось само имя — Волкодав?
— Я понимала, что у героя должно быть животное-первопредок. Я все перебрала: и барсов, и волков, и беркутов с кречетами. Чувствую, здорово, но не то. И вот смотрю я как-то по телевизору передачу про художника Константина Васильева, а там его друг говорит: «Для меня это иллюстрация к пословице „Волкодав прав, а людоед — нет“». На меня как кирпич упал: вот оно! Я поняла, что барсы и медведи существуют вне человеческого мира. Они с человеком либо друг на друга охотятся, либо конкурируют за пропитание. А волкодав — он не менее страшный и грозный, но стоит рядом с человеком. И за человека он и убьет, и свою жизнь отдаст.
— «Волкодав» запустил огромную волну. И прямых подражаний и продолжений, и вообще того, что называется славянским фэнтези. Как вы на это смотрели?
— Юрий Никитин только обижается: его «Трое из леса» вышли раньше — разница, по-моему, в пределах года. Но разве важно, кого назначить родоначальником? Когда после «Троих из леса» и «Волкодава» поднялась эта волна, я поначалу обрадовалась. Думаю, наконец-то заметили, что у нас под носом сокровища. Но когда я начала читать книги и обнаруживать там познания диванно-обывательского уровня, радость очень быстро увяла.
Многие авторы считали, что если героев поселить в теремок, назвать их Ратиборами и Милославами и дать им в руки мечи, то это и будет славянское фэнтези.
Такую, извините, чушь несли. И по языку, и по деталям обихода.
Пишущая публика унюхала тренд, решила, что это вернячок: напишу-ка я на эту тему, и книжка будет хорошо продаваться. Может, поначалу так и было, но читатель правду видит — вздувшаяся волна быстро сошла на нет. Сейчас, правда, снова поднимается, и там уже видны признаки освоения материала, не только славянского. У нас же страна — колоссальный континент. В одном только Дагестане 150 народов живет. Наконец-то пишущая публика начала понимать, что чудеса — это не обязательно к королям и герцогам. Рядом, прямо за углом, столько всего! Отъезжаешь на 100 километров от Питера и оказываешься в гостях у народа, который во всех учебниках числится давно вымершим, ассимилировавшимся. А они живут себе, и песни поют, и своему языку детей учат. В другую сторону 100 километров — еще один народ. Это же прекрасно!
— А кто вам интересен из ныне пишущих?
— Маститых авторов не хочу называть. Я вообще человек, недовольный по определению, всегда найду, к чему прикопаться. Но я бы всем посоветовала обратить внимание на молодую писательницу Алину Потехину. Ее рукопись попала на одну из литературных мастерских Сергея Лукьяненко. Алина выросла в Магадане, сейчас живет в Казани, она написала вот фэнтези, называется «На деревянном блюде» Там действуют персонажи чукотских и вообще северных сказок, фольклорные герои. Естественно, я нашла, за что ее поругать. Но в целом книга замечательная. И, я надеюсь, Алина не бросит эту тему и продолжит рассказывать о северных мифологиях, с уважением и пониманием.
— Хотел спросить о еще одной книге из мира Волкодава — «Там, где лес не растет». Откуда взялся такой необычный для фэнтези герой — мальчик, который не может ходить?
— 52 года моей жизни прошли в обществе отца, инвалида детства — он перенес полиомиелит в два года. При этом умудрился повоевать, причем не где-нибудь, а в разведке — был нелегальным радистом в Тихвине, который наши то брали, то отступали из него. Мальчик 1925 года рождения в 30-е годы, когда еще вовсю неграмотность ликвидировали, умудрился самоучкой освоить радиодело. Потом, в 1937 году, еще и стал сыном «врага народа». Семья переехала из Питера в Ярославль, оттуда он воевать и пошел. После войны учился в Одесском политехе. Он написал диплом, который из Одессы отправили в Питер с сопроводительным письмом: дорогие ленинградские коллеги, пожалуйста, ознакомьтесь, нашего научного уровня не хватает, чтобы его оценить. До вынужденного выхода на пенсию в 90-е он стал доктором наук, профессором, моим отцом. Человека лучше и мужчину достойнее я в жизни не встречала. Это не потому, что он мой отец — это просто объективный факт. Если бы я не написала книгу про персонажа с физическими особенностями, ну это я бы просто себя не уважала.
Сказ о белокурой девушке и белом драконе
Над сияющими крышами старинных городов парила девушка с волосами цвета северного солнца. Её стройная фигура была облачена в длинное красное бархатное платье, расшитое затейливыми золотыми узорами, переливающимися подобно искрам драгоценных камней. Девушку звали Элена, она была хранительницей древних знаний и защитницей мира от зла. 💃
Её верный спутник — белый дракон Аргос, чья чешуя светилась серебристым светом даже в пасмурные дни. Они были неразлучны уже много веков, вместе путешествуя по миру и защищая города от тёмных сил.
Три тысячи лет желаний (2022)
Британская лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу. Уже в аэропорту женщина начинает видеть загадочных существ, а когда в одной из многочисленных сувенирных лавочек покупает стеклянную бутылочку и пытается её отмыть, перед ней возникает самый настоящий джинн. Алетея не торопится загадывать три желания, ей интереснее послушать его историю. Джинн начинает свой рассказ.