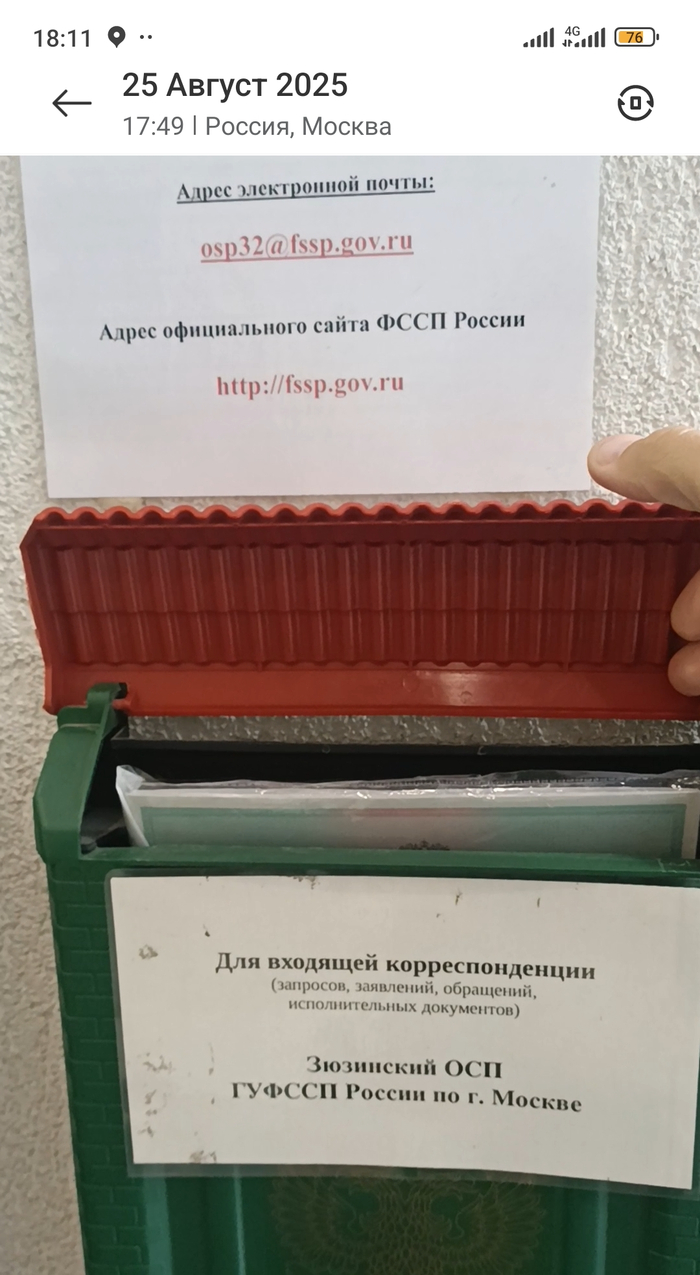Город, да, это был определенно город, чьи фонари питались динамо-машинами, прикрученными к беличьим колесам, в которых с утра до ночи, сбивая лапки в кровь, неслись тысячи проклятых душ в офисных костюмах. Электричество было тусклым, пахло паленым мехом и отчаянием. Я сидел на бордюре, докуривая сигарету, и смотрел на центральное здание — исполинский, циклопический зиккурат, сложенный не из камня, но из спрессованных отчетов, служебных записок и непрочитанных электронных писем. Министерство Важной Хуйни, как его называли в народе. Сокращенно — МинВах.
Над входом висел неоновый лозунг, мигающий с аритмией больного сердца: «ДВИЖЕНИЕ — ВСЁ, ЦЕЛЬ — НИЧТО».
Я сам там работал. В Отделе Переливания из Пустого в Порожнее, подотдел Вторичного Изобретения Велосипедов. Моим начальником был низкорослый тип с вечно влажными ладонями, который каждое утро сдвигал на своем столе гору бумаг слева направо, а каждый вечер — справа налево. Это называлось «оптимизацией документооборота». За это ему платили премию. Иногда он останавливался, протирал лоб и говорил с придыханием: «Какой денек, а? Ни минуты покоя. Горим на работе!» И в его глазах плескался не огонь, а тусклый болотный свет самодовольной усталости. Он был первосвященником в этом кафедральном соборе бессмысленности.
А вокруг кипела, бурлила, пенилась жизнь, похожая на бульон, в котором забыли выключить газ. В Департаменте Стратегического Планирования рисовали подробнейшие карты дорог, ведущих из вчера в позавчера. В Секторе Инноваций с невероятным усердием толокли воду в ступе, добиваясь идеальной мутности консистенции, а затем патентовали результат как «нано-дисперсную эмульсию темпоральной фрустрации». Я видел женщину, которая на протяжении восьми часов в день сшивала степлером два листа чистой бумаги. Щёлк. Пауза. Щёлк. Это называлось «укрепление межведомственных связей».
Мы все были гребцами на галере, намертво пришвартованной к бетонному пирсу. Мышцы наливались свинцом, пот заливал глаза, барабанщик-менеджер выбивал яростный ритм на своем тамтаме из человеческой кожи, а берег, сука, не приближался и не удалялся. Он просто был. Неподвижный, как насмешка. Мы были атлетами духа, бегущими марафон на месте, спринтерами вечности, застывшими в идеальном напряжении на старте, который никогда не перейдет в выстрел.
Иногда по ночам мне снились кошмары. Не монстры, нет. Мне снился Сизиф. Только вместо камня он катил на гору гигантский, склеенный из скотча шар канцелярской хуеты. И когда он почти достигал вершины, из шара выпадала одна скрепка, нарушала баланс, и всё это великолепие — отчеты, планы, графики отпусков — с грохотом неслось вниз, обратно к подножию экзистенциального ахуя. И Сизиф, вытерев пот со лба, улыбался и говорил: «Ничего, зато я занят. Зато не сижу без дела».
В этом и был главный секрет, главный наркотик, главная, блядь, религия этого места. Страх тишины. Паническая боязнь остановиться и услышать не гул турбин, не щелканье клавиатур, не хрустальный звон лопающихся дедлайнов, а оглушающий, первозданный вакуум внутри себя. Пустоту, которую мы так отчаянно пытаемся замостить булыжниками псевдодеятельности. Наша работа была молитвой, обращенной к богу по имени «Лишь-бы-не-думать».
Мы строили архитектуру из тумана, возводили замки из песка на берегу реки забвения и тут же яростно их охраняли от прилива. Мы были театром одного актера в абсолютно пустом зале, где каждый играл свою самую убедительную роль — роль нужного, незаменимого винтика в гигантской машине, которая никуда не едет и ничего не производит, кроме шума и энтропии. Гонка за собственным хвостом, возведенная в абсолют, канонизированная, расписанная по должностным инструкциям.
Однажды я не выдержал. Прямо посреди рабочего дня, когда гул улья достиг своего апогея, я просто встал и перестал. Я замер посреди своего опенспейса. Сначала никто не заметил. Коллега, гонявший по экрану курсор, чтобы компьютер не ушел в спящий режим, продолжал свое священнодействие. Дама напротив продолжала яростно красить ногти, называя это «подготовкой к важной встрече».
Но потом тишина вокруг меня стала плотной. Она обрела вес. Она стала аномалией, черной дырой в ткани их реальности. Они стали оборачиваться. В их глазах был не гнев. В их глазах был первобытный ужас. Ужас человека, который всю жизнь бился головой о ватную стену, и вдруг кто-то рядом перестал биться. А что, так можно было? А что, если стена и правда ватная? А что, если за ней — ничего? Или, что еще страшнее, — всё?
Я посмотрел на свои руки. Они не держали ни мышку, ни ручку, ни степлер. Они просто были. Я почувствовал, как мое сердце — не загнанная в угол крыса, а настоящая, живая мышца — бьется ровным, спокойным, почти забытым ритмом.
И я рассмеялся. Прямо там, в сердце Министерства Важной Хуйни, под тусклым светом беличьих колес, я стоял и смеялся. И это был самый осмысленный, самый продуктивный и, пожалуй, самый ахуенный рабочий день в моей жизни.