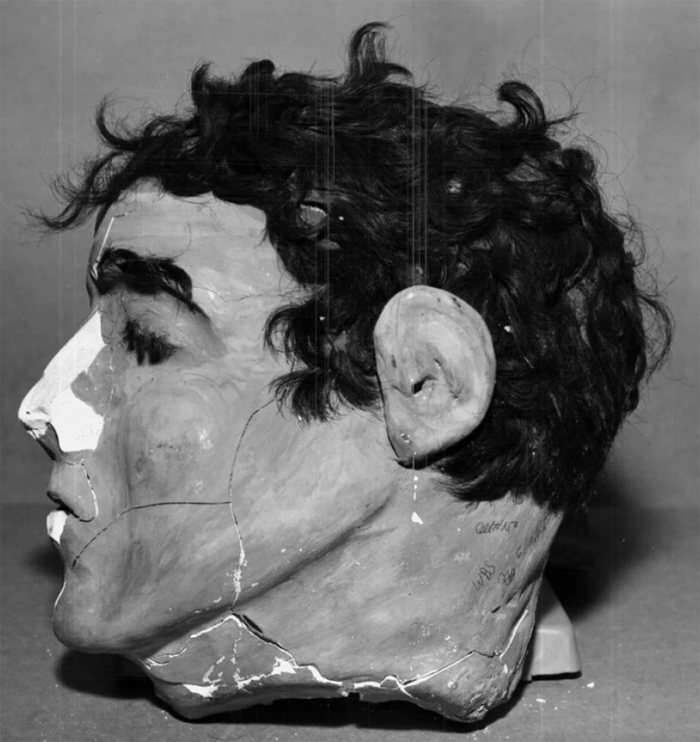Калека негр побеждает жирного в схватке
Когда мама кормит пирогами, жена кормит булочками, а в обед покупаешь пончики, то теряешь форму, пистолет и увожение, и проигрываешь по джиу-джитсу в схватке с калекой. Что-то подобное произошло с американским конвоиром 26 октября 2021 года. Смотрим, чтобы не повторять ошибок, вдруг нам придётся перевозить такого же злого калеку негра.
Предыстория. Фредерику Госсу 55 лет, он сидит в инвалидном кресле. В тот день о нём заботился сотрудник американской ФСИН Джефф Кларк. Он снял с заключённого наручники перед тем, как завести его в судебный зал, потому что присяжные не должны видеть наручников, дабы не думать о подсудимом плохо. У Фредерика Госса болела ножка, но он не утратил диких инстинктов, решил завладеть пистолетом и сбежать. Правда как бежать, когда он ходить не может? Об этом он не подумал.
Самое комичное не это. У Фредерика Госса болела ножка, потому что ему её подстретил другой коп, когда незадолго до того Госс стал отстреливаться при ограблении магазина. Но этого Госсу показалось мало, поэтому он собрал в лодыжку ещё немного металла.
На помощь поверженному Джеффу Кларку приходит помощник шерифа Давид Май. Подстрелить помощника шерифа Госсу не удалось, так песня Боба Марли прошла аутентификацию.
Убедить присяжных не думать о Фредерике Госсе плохо - тоже не удалось. Ему вручили приговор в отсидку 40 лет за вооружённое ограбление, и 44 года за инциндент на видео выше. Итого за решёткой он проведёт 84 года, если подпадёт под программу долгожительства.
История закончилась счастливо. Кларка после потасовки отправили в больничку прийти в себя, Давиду дали три дня отпуска. Давид вскоре ушёл на пенсию, а в 2023 году его наградили Медалью Почёта.
Про цыгана Американский коп не любит цыган особо не взлетело, а ведь такой шикарный монолог на третьем видео. Тем не менее, Vox Populi Vox Dei, что хотите:
Ссылки для следопытов, с Наступающим!
https://www.kbsi23.com/news/mt-vernon-man-faces-attempted-mu...
https://southernillinoisnow.com/2022/12/08/mt-vernon-man-fou...
https://www.x95radio.com/2022/07/18/goss-found-mentally-fit-...
https://www.w3dcountry.com/2023/04/03/goss-removed-from-cour...
https://www.wmix94.com/2023/02/09/goss-gets-40-years-for-sho...
https://southernillinoisnow.com/2021/12/20/jefferson-county-...
https://southernillinoisnow.com/2023/06/01/three-area-law-en...