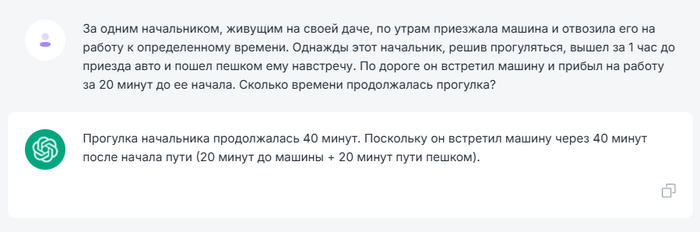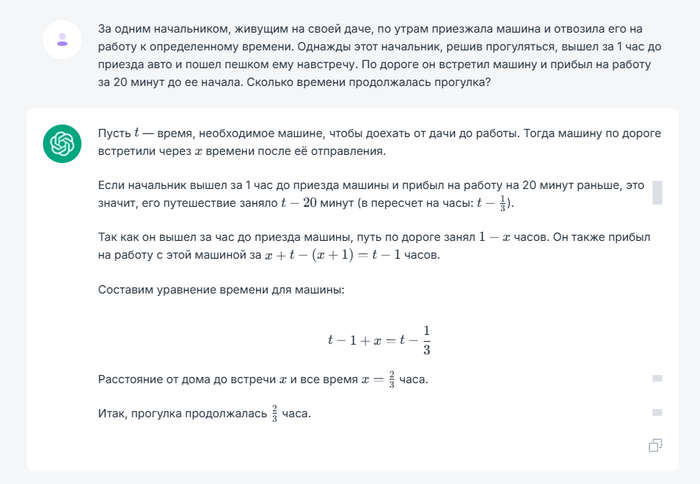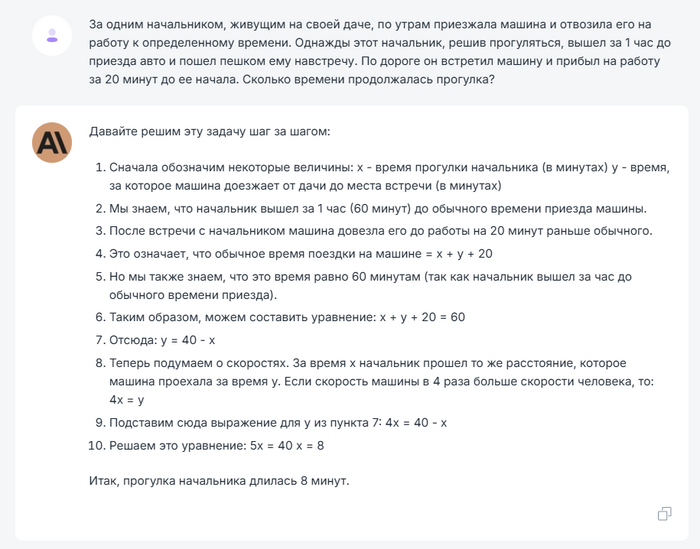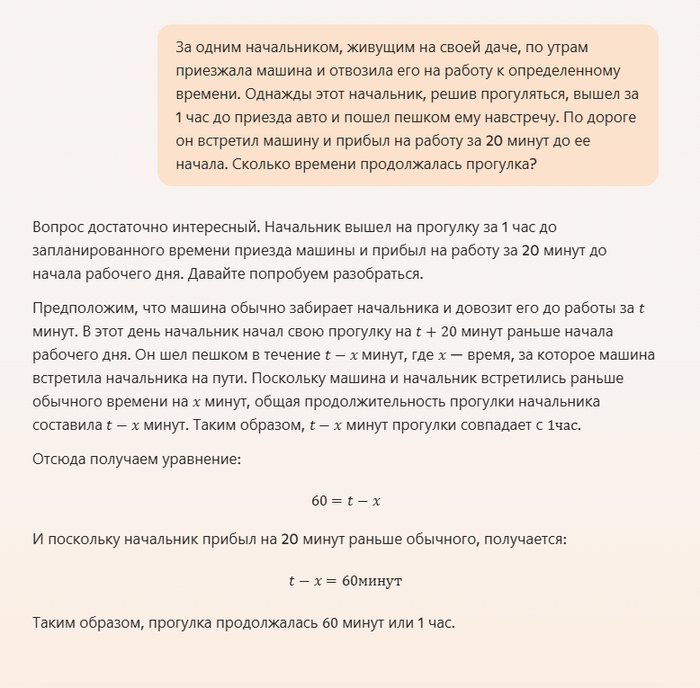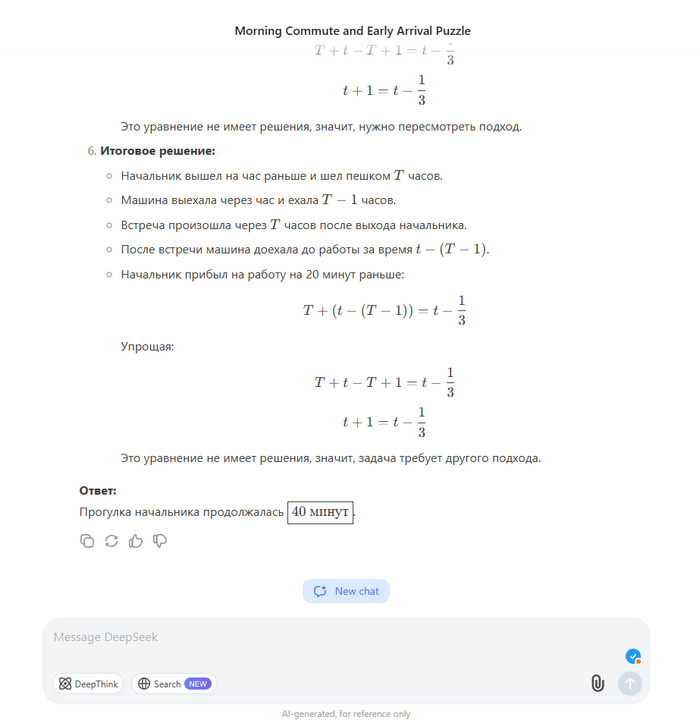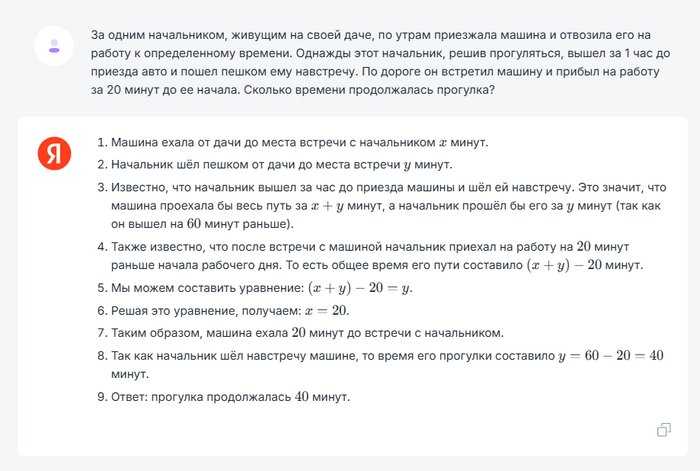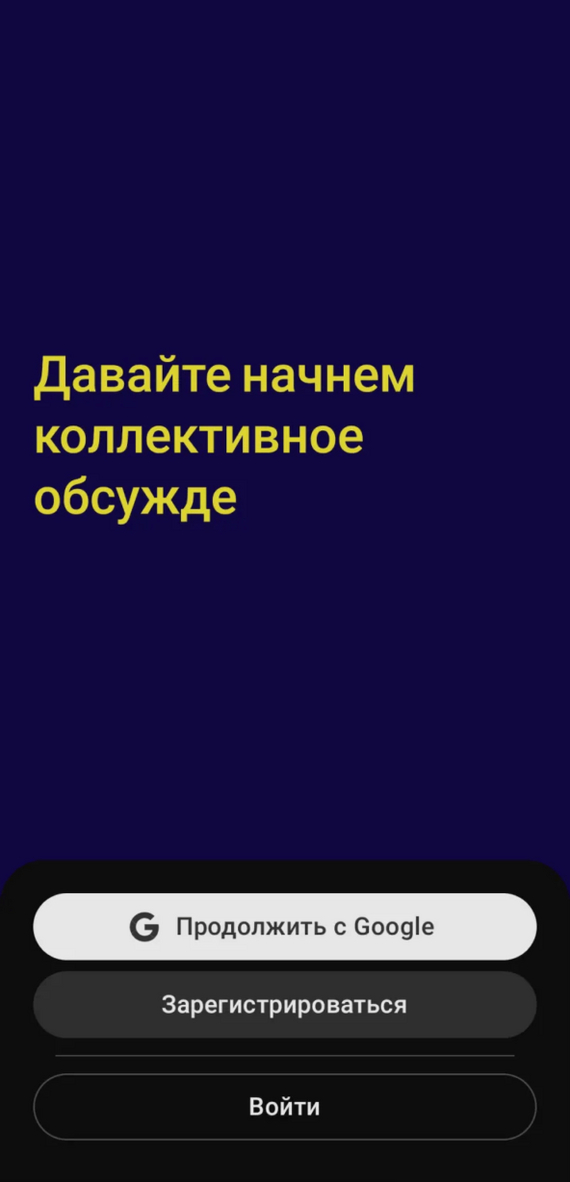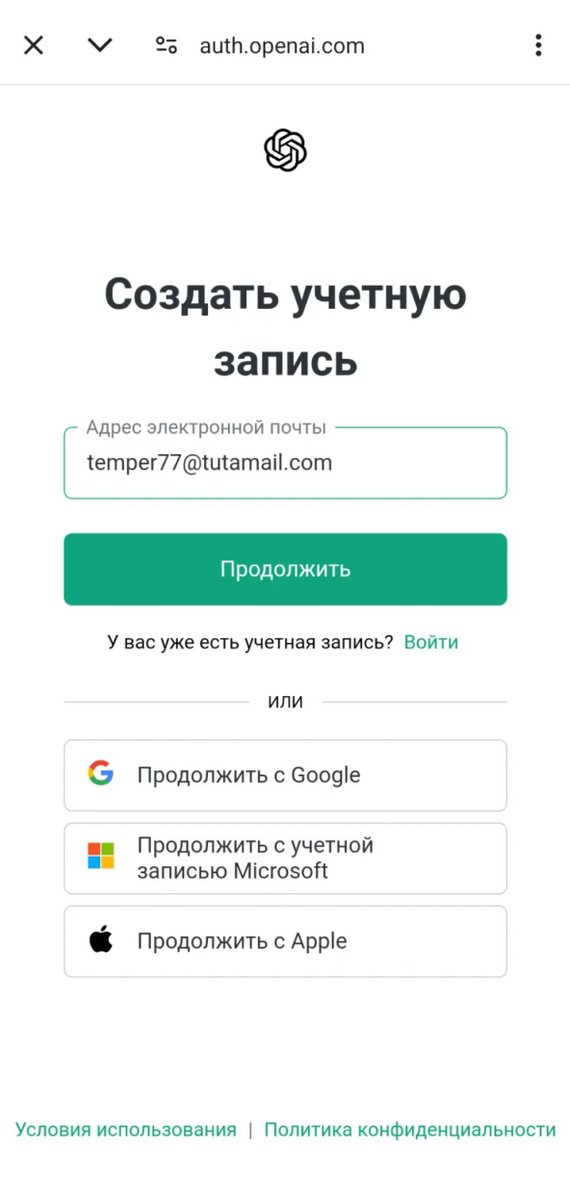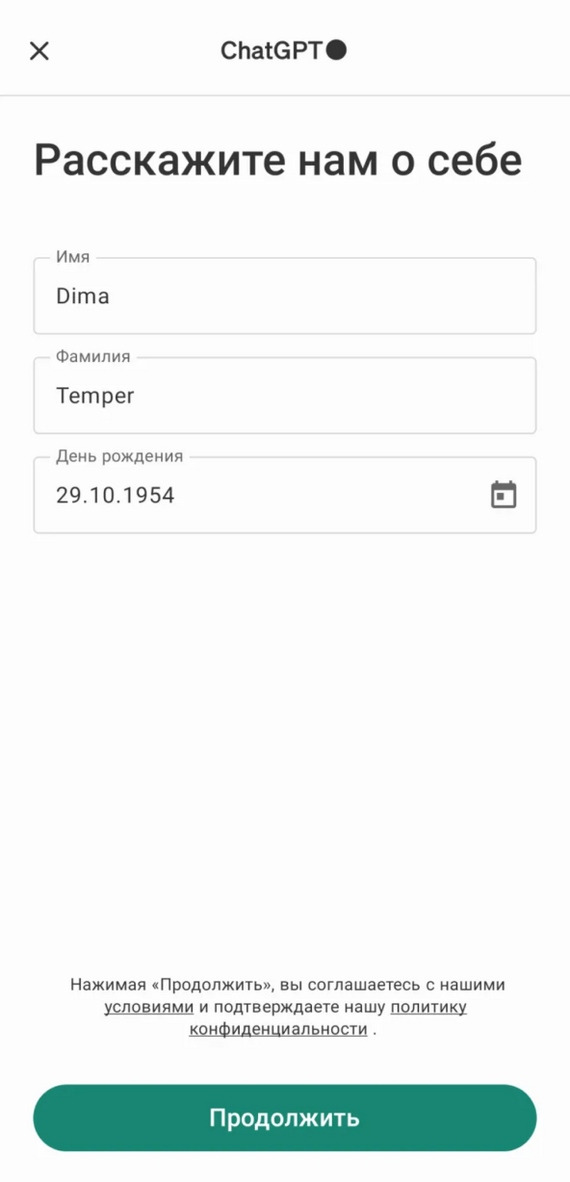Эльза любила Рождество и всегда ждала зиму с нетерпением, предвкушая декабрь, сочельник, украшенные еловыми ветками улицы, витающий тут и там аромат рождественского штоллена с марципановой начинкой. Запах миндаля летел из каждого окна, смешивался с ароматами имбиря и корицы, щекотал ноздри, и Эльзе казалось, будто бы весь город превращался в пряничный домик, полный радости и предвкушения самого светлого и долгожданного праздника.
На площади в Альтштадте по вечерам расцветала, освещенная множеством свечей и фонарей, рождественская ярмарка, и все, от мала до велика, стремились туда, дабы гулять между рядов, уставленных сладостями в мерцающей медной посуде, и слушать музыкантов, которые играли прямо на улице свои веселые незатейливые мелодии. Папенька Николас всегда покупал целый мешок конфет и пряников, которые, вперемешку с бумажными цветами, бантами и несколькими стеклянными новомодными игрушками, оседали на следующий день на рождественской елке в их гостиной.
А в самый канун Рождества все они - Эльза, Катарина, папенька и маменька - всегда отправлялись в празднично убранный городской собор на острове Кнайпхоф. Обычно они не ходили туда, молились в кирхе недалеко от дома, но в Рождество всегда шли на остров, и величественные, гордые звуки органа заставляли трепетать маленькое сердечко Эльзы, и казалось ей, будто бы она слышит, как поют в небе ангелы, радуясь рождению младенца Христа.
Но в этом году не было ни штоллена, ни миндально-имбирного запаха, и даже собора на острове больше не было – некогда величественное здание лежало в руинах после бомбежки.
И сама Эльза была чуть жива – пошатываясь от голода, брела она в подвал, где, помимо нее и Катарины, ютилась еще старая фрау Дагмара.
И на том спасибо, что эти, пришлые, из подвала не гонят – Эльза видела, как с наступлением холодов замерзали те, кто остался совсем без крова. На всю жизнь запомнится ей дядя Петер – вечером, когда Эльза бежала с работы, он сидел у двери своего бывшего дома, трясся от холода, а наутро, когда она снова брела мимо, он был все там же, но уже совсем белый, и его мертвые, прозрачные глаза невидяще смотрели в равнодушное серое небо.
Почему-то Эльзе больше всего врезалось в память именно это – стеклянные, словно кукольные, глаза и мелкий снег, не тающий на худых щеках с реденькой, белесой, как иней, щетиной.
Притворив за собой хилую, щелястую дверь, Эльза постояла немного, подождала, пока глаза привыкнут к темноте, затем подошла к столику, сооруженному из старых ящиков, выложила на него нехитрую добычу – краюшка хлеба, пара подгнивших, но еще годных желтых яблок.
И вот за эти крохи она, Эльза, весь день, до ломоты в спине, стирала белье для семьи из этих.
Может быть, Катарина была не так уж неправа, когда умоляла маменьку и папеньку еще в 1944 бежать вместе с отступающей армией вглубь страны? Может, надо было попытаться тогда? Но отец не желал слышать ничего о бегстве, он твердил, словно ярмарочный попугай: «Тут мой дом, тут я и умру».
От воспоминаний на Эльзу накатила злость.
Конечно, папенька, тут твой дом, тут ты и умер, прямо в первый день штурма Кёнигсберга. Тебе даже бомбы и пули не нужны были – твое сердце не выдержало самой этой новости, ты ведь надеялся, что все обойдется. Как ты там говорил: «Мы же мирные, мы не военные и не имеем никакого отношения к этому всему, нас не тронут».
Вспоминая отца, Эльза сжала губы – казалось бы, такой умный, сильный - и так глупо рассуждал. Не тронут, как же...
Это война, и тут не разбираются, кто прав, а кто виноват. Если немец - значит, враг, если враг – умри.
И мама тут умерла – прямо перед этим подвалом, не успев забежать внутрь при очередной бомбежке. Эльза прекрасно видела сквозь щели подвальной двери, как мама бежала к ним и рухнула, нелепо распластавшись на сырой, только пробуждающейся, апрельской земле. И как Катарина, наплевав на падающие с небес бомбы, вырвалась из безопасности укрытия и рванула к матери. Накрыла ее своим телом и лежала так до наступления тишины, а после села и, положив голову фрау Вигберг себе на колени, все гладила и гладила, словно механическая, слипшиеся от крови волосы матери, не замечая ничего вокруг.
А она, Эльза, смотрела на них из безопасности своего укрытия, дрожала от ужаса и не могла даже плакать.
А может, им с Катариной стоило попробовать уйти из города позже, морским путем? Да, было страшно, на корабли, что перевозили людей, постоянно сбрасывали бомбы, умельцы строили плоты – но они не выдерживали, разбиваясь о ледяные волны. Люди тогда уплывали, кто на чем мог – на бочках, камерах от автомобилей, даже на резиновых подушках… Эльза и Катарина видели эту картину своими глазами, когда метались по городу, лихорадочно пытаясь сообразить, что же делать, куда бежать – но страх утонуть пересилил страх быть застреленным или убитым осколком при бомбардировке.
И девушки вернулись в разгромленный, но, все же, родной дом. Как смогли, выкопали могилу и похоронили родителей, постарались привести в порядок участок. Тем более, что Кёнигсберг 9 апреля 1945 года был взят советскими войсками, и в городе наступило затишье – все ждали новостей о капитуляции Германии, понимая, что это вопрос нескольких дней.
И Германия пала, а после родной Кёнигсберг решено было отдать победившему СССР.
Новость об этом снова растревожила израненный город, кто не ушел и не погиб – спешно собирали вещи и бежали, но Эльза и Катарина и тут испугались, подумали – как, куда, к кому? Родителей больше нет, тетя Гретхен жила здесь же, в Кёнигсберге, но погибла в первые дни обстрелов; конечно, где-то там, на юге Германии, были еще родственники, но кто они и как их искать, девушки даже не представляли.
Если были бы живы родители или хотя бы маменька, тогда мир по-прежнему был бы ясный и понятный. А так пришлось успокаивать себя мыслями о том, что они просто люди, обычные, мирные люди, что им будет?
- Будем, значит, жить, как жили, только при другом правительстве, - сказала Катарина, - тем более, что русский язык знаем. Не пропадем!
Это было правдой – папенька постарался дать девочкам хорошее образование и не скупился на учителей. Девушки прекрасно говорили по-русски, по-французски и по-немецки, отлично шили, катались на коньках и даже пробовали в мирное время заниматься фотографией. Так что сестры не падали духом – добросовестно ходили на перепись немецкого населения, оставшегося в городе, слушали новости из квадратного черного радиоприемника, ставшего им настоящим окном во внешний мир, шили знакомым женщинам по старой памяти платья на заказ, посещали кирху.
4 июля 1946 года Кёнигсберг был официально переименован в Калининград - начиналась новая история старого города. Эльза и Катарина старательно учили это новое название - «Калининград», но слово не поддавалось, было чужим, застревало в зубах.
Когда вышел указ о том, что все дома, в которых жило коренное население, отдают добровольным переселенцам, желающим жить и работать в новом для страны городе, многие сначала не поверили – не может такого быть, чтобы человека гнали из своего законного, родного дома.
Но, как оказалось, очень даже может – первые переселенцы начали приезжать буквально через пару недель, с семьями, скарбом, и стало понятно – эти тут надолго.
Сначала Эльзу и Катарину «уплотнили» - выселили из шести комнат их уютной квартиры в одну, самую маленькую, а остальные заняли семьи переселенцев; но через месяц и эту, единственную, комнату, у них отобрали, так что девушки были вынуждены перебраться в подвал некогда собственного дома. Туда же, спустя несколько дней, несмело поскребла и фрау Дагмара – ее дом тоже отдали этим, но только сколько-то удобного подвала в нем не было, вот и пришла к соседям в надежде, что не прогонят.
Работы для немцев при новом строе в городе не было, так что девушки крутились как могли – нанимались стирать и убирать приезжим, кому-то везло, и их нанимали готовить, но это было редкостью – с продуктами было плохо для всех, перебивались пока по карточкам, которые немцам были не положены.
Прервав череду печальных мыслей девушки, в темном углу заворочалась на своей импровизированной кровати из тряпок, досок и старенького, но все еще теплого одеяла, фрау Дагмара.
- Тетушка, - шепотом позвала Эльза, - тетушка, давайте поедим?
Эльза отломила кусочек от краюхи, приблизилась к постели – и отшатнулась.
Выгнувшись, старая Дагмара хрипела, широко открыв глаза и рот, иссохшее ее тело колотило то ли от холода, то ли от предсмертной судороги. Время от времени старуха делала попытку приподняться, но силы покидали ее, и все начиналось сначала. В какой-то миг хрип усилился, лицо фрау Дагмары исказила жуткая, нечеловеческая судорога - и старуха затихла.
- Mein Gott! – прошептала одними губами Эльза. – Что же делать?
В этот момент дверь подвала скрипнула, отворяясь, и внутрь птичкой впорхнула совсем юная девушка.
- Эльза, сестричка, смотри! – крикнула она, - у нас будет настоящий сочельник!
Перехватив взгляд сестры, девушка затихла, осторожно положила на стол еловые ветки, нечто в сером пакете, от которого шел сладкий, манящий аромат, и приблизилась к постели старухи.
- Она умерла, - не глядя на сестру, прошелестела Эльза. Внезапно голос ее сорвался на визг, переходящий в рыдания. - Мы все умрем здесь! Мы сдохнем в этом подвале от сырости, холода и голода, пока эти там, наверху, жрут нашу еду и спят в наших постелях.
Эльза опустилась на один из ящиков, обхватила колени руками и горько, безнадежно заплакала.
Так плачут потерявшую всякую надежду люди.
- Никогда не впадай в отчаяние, - строго посмотрела на нее Катарина, - сейчас ты возьмешь себя в руки, мы отнесем старую Дагмару к кирхе на соседней улице, а после вернемся домой, ты порежешь пирог, которым меня угостили, и мы будем встречать это Рождество.
- Рождество?! – сквозь всхлипы выдавила Эльза, - это ты называешь Рождеством?! Рождество – это про теплый дом, про родных, которые собираются за одним столом, про украшенную елку. Какое Рождество может быть в этом подвале, когда наши родители мертвы, а в комнате лежит труп соседки? Очнись, Катарина!
Но Катарина не слушала сестру.
- Мы вынесем отсюда Дагмару. Порежем пирог. Отметим Рождество.
Внезапно на Эльзу накатила какая-то тупая усталость.
Словно во сне, она смотрела, как Катарина подхватила старуху за плечи, поволокла к выходу. И вот уже ее собственные руки поднимают худые, похожие на птичьи лапки ноги фрау Дагмары, обутые в ветхие штопанные носки, и, сгибаясь под тяжестью трупа, она изо всех сил старается не уронить ставшее невозможно тяжелым мертвое тело, но, когда они добрели до кирхи, силы покинули ее и она, опустив свою ношу на землю, чуть не упала прямо на труп.
- Пойдем отсюда, - зашептала Катарина, - нас вроде бы никто не видел.
Возвращались девушки молча.
- Мы бросили ее, как собаку, у церковного забора, - нарушила молчание Эльза, когда сестры вернулись в подвал. – Как собаку.
- А что нам надо было делать, - парировала Катарина, пытаясь согреть посиневшие от холода руки. – Мы отнесли ее к кирхе, кто-нибудь найдет ее и разберется, а нам нужно думать о себе. Эти разбираться не будут, эти просто обвинят нас в убийстве, и мы никогда не докажем, что это была естественная смерть от холода и голода. Нам нужно думать о себе.
С этими словами сестра достала откуда-то из-за пазухи почти новую, толстую свечу и установила ее на столике.
- Эльза, - девушка строго посмотрела на сестру, - ты знала, чем занимается наша мама?
Конечно, знала, все в их округе знали – знали, и лишний раз старались об этом не говорить.
Фрау Вигберг умела многое – часто сестры в окно своей комнаты видели, как по вечерам в их дом приходили женщины, а порой и мужчины, воровато оглядываясь, просачивались под покровом темноты в дверь и уходили всегда за полночь, не смея обернуться. Комната, которую маменька называла своим кабинетом, запиралась на ключ, и даже отец, авторитет которого во всех остальных вопросах не подвергался сомнению, никогда не входил туда.
Излечить от болезни или наоборот, наслать болезнь? Избавиться от соперницы или приворожить того, без кого белый свет не мил? Решить проблемы с долгами? Вытравить нежеланного ребенка? На все эти вопросы в Альтштадте был один ответ – иди к фрау Вигберг, но будь готов, что фрау запросит высокую цену.
И хорошо, если эта цена будет измеряться деньгами.
Оттого-то семья обычного аптекаря жила в богатом кирпичном доме, а девочки не знали нужды – в секретере фрау Вигберг всегда было достаточно денег, а молва об умениях хозяйки невольно заставляла относиться к семейству Щультц с уважением.
- Так вот, - продолжала Катарина, - ты помнишь день, когда мама умерла? Когда я выбежала и обняла ее, она из последних сил протянула мне это и сказала, чтобы я не использовала без нужды.
И Катарина показала Эльзе на раскрытой ладони тонкую костяную фигурку.
Фигурка была небольшая - сантиметров семь, и изображала то ли ворона, то ли какую другую птицу, словно одетую в широкий балахон. Эльза протянула, было, руку, чтобы взять фигурку и рассмотреть, но сестра резко отпрянула.
- Ты чего? – Эльза с удивлением посмотрела на нее.
- Ничего, - ответила та. – Маменька когда-то говорила с тобой об… об этом?
- Нет, - помолчав, сказала Эльза, - она всегда беседовала только с нами обоими, так что я знаю не больше тебя.
Фрау Вигберг часто приходила к девочкам перед сном и рассказывала разное – сначала в форме сказок, а потом и более открыто. Говорила, что род их – очень древний, и ведет начало от некой Магды, которая в минуту отчаяния заключила прОклятый договор. С той поры все женщины их семьи имеют дар, но сам по себе дар слаб – что толку видеть будущее или предсказать смерть, если ты не можешь этого изменить?
- Настоящую силу дар обретает, только если ведьма призывает Стража, - говорила фрау Вигберг девочкам, которые смотрели на мать во все глаза, - для этого нужно омыть его фигурку своей кровью. Страж делает ведьму по-настоящему могущественной, он может изменить судьбу, может забрать с собой того, на кого укажешь, а может и достать кого нужно с того света. Но не стоит думать, что что-то в этой жизни дается просто так – за каждый призыв Страж требует плату, и плата эта может быть разной. Иногда, чтобы расплатиться, достаточно просто напоить его кровью или принести в жертву небольшое животное, а иногда плата бывает гораздо, гораздо выше, так что сто раз нужно подумать, прежде чем просить его о чем-то. Со Стражем нельзя торговаться, с ним невозможно договориться – он все равно заберет свое в обмен на высказанную просьбу.
- Придет время, и одной из вас я передам амулет, - поговаривала фрау Вигберг, поглаживая перед сном волосы дочерей, - И не избавиться от него, и не отмолиться. Амулет да соломенные куклы, вот ваше приданое. Бедные вы мои бедные, проклятые, обреченные.
Катарина смотрела на фигурку, поблескивающую в ее пальцах.
- Однажды, когда вы все спали, - начала она тихо, - я прокралась к маминому кабинету и посмотрела в замочную скважину. Мама лежала на полу, голая, дрожащая, и по ее ногам текла кровь, а напротив нее стояло нечто. У него был такой же большой клюв, как у этой фигурки. Я тогда испугалась, вскрикнула, а очнулась уже в своей постели. Мама говорила, что у меня жар и мне все привиделось, но я уверена - это был он, Страж.
Эльза почувствовала, как внутри нее закипает злость.
В ее руках мамина тайна, спасение от всех бед, они умирают с голоду, а она дрожит, как испуганная овца и ничего не делает!
- Отдай! – крикнула было Эльза, - это мое! Мама должна была отдать его мне!
- Нет, Эльза, - тихо сказала она, - мама доверилась мне, я и буду решать, что с этим делать.
- Пожалуйста, - сменила тактику притихшая вмиг девушка, - попроси его о помощи. Просто пусть будет как раньше. Пусть мы будем и дальше жить в своем доме, а на столе у нас будет достаточно еды. Пусть закончится этот голодный и холодный ад, в котором мы существуем. Я не хочу умирать.
И она, отвернувшись, тихо заплакала.
- Выйди, - скомандовала она тихим, но твердым голосом, - выйди и не входи сюда, что бы ни происходило.
Когда за Эльзой закрылась дверь, девушка взяла нож и резанула себя по руке, крепко сжимая клювастую фигурку.
Капли крови беззвучно падали на земляной пол подвала.
Испуганная девушка не сразу поняла, что тьма, ежившаяся до этого в углах и дрожавшая в свете свечи, стала густой, осязаемой. Тьма стекалась к ногам Катарины, лизала руки, пила теплую, живую кровь, свивалась в нити, нити скручивались в жгуты и через несколько мгновений перед ней вырос он. У него был огромный черный клюв с блестевшими на нем жирными перьями, клокастые, язвенные, больные крылья вместо рук, создающие иллюзию длинного плаща. Он стоял на человеческих ногах, и мерзкое, толстое, воспаленное его естество покачивалось в такт движениям.
Все, что выше пояса, было птичьим.
Но по-настоящему страшными были его глаза – на птичьей морде сидели две дыры, из которых на девушку смотрела равнодушная, мертвая, первозданная Тьма.
Тварь подошла ближе, из клюва выполз, как змея, острый вороний язык и провел по щеке еле живой от ужаса девушки.
- Новая, - сиплый, низкий голос заставил Катарину съежиться, - молодая. Проси.
- Я хочу, чтобы мы жили дома, как раньше, и не голодали, - прошептала девушка.
- Сделай куклы тех, кто живет в доме, и не забудь вставить им глаза.
- Вставить… глаза? – промямлила Катарина.
. В глазах живет душа. Кукле нужны живые глаза.
Тварь захрюкала, и Катарина с ужасом поняла, что это смех.
Меж тем, Страж продолжал.
- Плата – первый ребенок.
С этими словами тварь осыпалась клочьями пепла, и Эльза, наблюдавшая все это через подвальную дверь, едва успела ворваться внутрь, чтобы подхватить упавшую без чувств Катарину.
Вот так моя бабка Катарина первый раз призвала Стража.
Об этом сама Катарина рассказывала Клавдии, своей дочери и моей матери, а та – мне. Мать не говорила, каким образом Страж выполнил просьбу, но скоро сестры въехали обратно в свою квартиру, которая к тому времени уже была разделена на две – верхний этаж остался полностью в распоряжении Катарины, а Эльза обосновалась внизу.
Бабушки Катарины не стало, когда моей маме было 17 лет – и сколько я не расспрашивала ее, как она умерла, мама не желала об этом говорить.
Судьба моей матери тоже сложилась печально – сначала, когда я была еще ребенком, умер отец, а после, в мои 19, скончалась и она. Врачебная ошибка, запущенный перитонит – нелепая, казалось бы, смерть.
Мама рассказывала мне то же самое, о том, что все мы прокляты и что нашей семье принадлежит некий Страж, но она намеренно не учила меня ничему из того, что умели моя бабка и она сама.
- Знаешь, доченька, - как-то раз в порыве откровенности сказала мама, - твоя бабушка научила меня многим вещам, но также она учила и тому, что за все в жизни нужно платить. Бабушка платила – кровью за небольшие просьбы, и три выкидыша было у нее, когда она просила перекроить казавшуюся ей несправедливой судьбу. Три раза она кормила Стража плотью своих детей. Она горько плакала и говорила мне, что это жутко до отвращения к самой себе – носить внутри ребенка и знать, что он никогда не увидит света, что его не суждено взять на руки. В положенный срок тварь приходила, раздвигала ей ноги и вынимала своим клювом из нутра нерожденную еще душу, не гнушаясь ни кровью, ни мясом. За право менять судьбу нужно платить слишком высокую цену. Я в свое время подумала, что смогу переиграть Стража, но - я всего лишь человек, а человек слаб и не может устоять перед искушением. Пришел день, когда он просунул в меня свой ледяной клюв и выклевал из нутра мою первую доченьку. Ведь ты – вторая...
Тут мама обычно начинала плакать, и я не решалась расспрашивать дальше.
Смысл слов о неизбежности платы я поняла уже после ее смерти – когда мама металась в горячке, а я дежурила у двери, ожидая скорую, она тихо простонала:
- Забери, но не пользуйся, спрячь, заклинаю тебя. И не призывай. Никогда.
Когда я подошла, в мою руку скользнула костяная фигурка.
- Помнишь, в прошлом году, когда ты болела менингитом? Тогда я снова просила помощи, и Страж тебя спас. Но у меня нет больше детей и нет возможности их зачать. Мне нечем платить за его помощь. И скоро он выклюет меня. Тебя он тронуть не может, ты же единственная наследница…
В ту ночь скорая увезла маму. Когда после вскрытия мне отдали тело, у него не было глаз. Врачи отводили взгляд и говорили, что это ошибка морга, но я-то знаю – ни один патологоанатом не станет вынимать покойнику глаза, да еще разрывая при этом ткани щек так, что с трудом удается это замаскировать. И как вообще мог случиться запущенный перитонит у женщины, которая три часа назад пришла с работы, приготовила ужин, а потом резко упала, в корчах, и начала выть от боли?
В глазах живет душа. И душа моей бедной матери пошла в уплату за то, что я живу на этом свете, а не умерла от воспаления мозга, хотя именно это, как видно, было написано мне на роду.
Я не хочу играть с судьбой. Пусть тайны прошлого остаются здесь, в этом доме. Фигурку я спрячу в тайнике, туда же положу и заметки. Я бы выбросила амулет в реку, но мама говорила, что она пробовала – договор, заключенный века назад, обязывает нас как передавать знания, так и хранить чертову игрушку, и она всегда возвращается назад. Я надеюсь, что этот тайник не найдут, и что написав эти заметки, я выполнила условия. Знания переданы, их хранит бумага, а фигурку сохранит тайник. Я хочу прожить свою жизнь, за которую так дорого заплатила моя мама, без всякого колдовства, и уберечь от этого всего своих будущих детей. Если вы нашли эти записи и фигурку – не экспериментируйте, просто закопайте содержимое тайника в другом месте и забудьте об этом».
Дочитав, я захлопнул ежедневник.
Еще в коробке был пакет, в котором лежали старые бумаги и фотографии, но их я решил рассмотреть потом. Стрелки часов показывали уже половину второго, а значит, чтобы успеть в больницу, придется поторопиться.
И в этот раз у меня к другу было много вопросов.