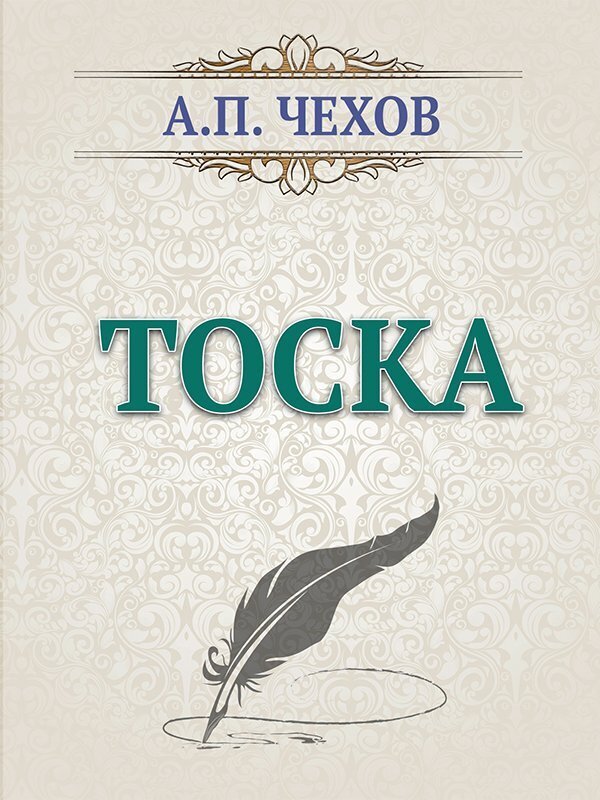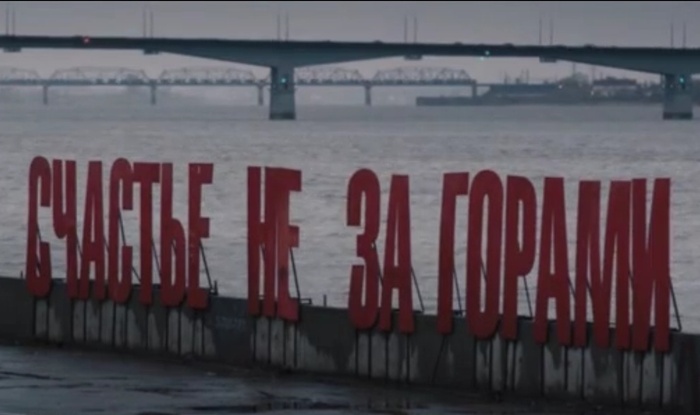Российское комьюнити все эти годы оказывало ОГРОМНУЮ ПОДДЕРЖКУ CD Project, покупая их игры, заступаясь за них перед лицом общественного давления, считая их "разработчиком от народа". Мы были самым преданным сообществом Проджектов, на нашей любви студия сделала огромную выручку и подняла высокие рейтинги.
https://www.change.org/p/русофобы-из-cd-project-red-прощайте
Наказывать обычный народ, население целой страны, огромное игровое сообщество за то, что их ПРАВИТЕЛЬСТВО ведет "военную""спецоперацию" - это стричь всех под одну гребенку. И тех, кто выступает против войны, и тех, кто выходит на митинги, и тех, кто финансово или гуманитарно помогает Украине, и тех, у кого просто болит душа за мирных жителей соседней страны. Польская студия не хочет видеть в российских геймерах ЛЮДЕЙ. У вас было много способов ввести санкции против российских геймеров, например, средства от продаж игр пожертвовать пострадавшим в конфликте на Украине. Но вы выбрали БОЛЬШЕЕ ЗЛО.
Хорошо, мы это принимаем. Не хотите, чтобы русские и белорусы покупали ваши игры? Не хотите больше видеть новых игроков из России? Ваше право! Это ваш выбор. Мы же не хотим, чтобы вы ПРОДАВАЛИ ВАШИ ИГРЫ В РОССИИ. МЫ НЕ ХОТИМ ВИДЕТЬ ВАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НАШЕЙ СТРАНЕ, это страницы магазинов, официальные аккаунты и тех.поддержку.
P. S. Для особо одаренных, кто будет говорить про "лучше бы эту энергию направили против войны", "выходите на митинги" - уже 1 миллион 100 тыс подписей на петиции "Нет войне" и больше 6к задержанных на протестах по всей России.
P.P.S Петиции, как и митинги ничего не решают. И здесь это не больше чем призыв задуматься о том, кто такие CD PROJECT RED и как лицемерен капитализм. Лучшее, что могут сделать российские геймеры, это обрушить рейтинги игр CDPR. Итальянцы занизили оценки Dying Light 2 за отсутствие озвучки, а мы чем хуже?