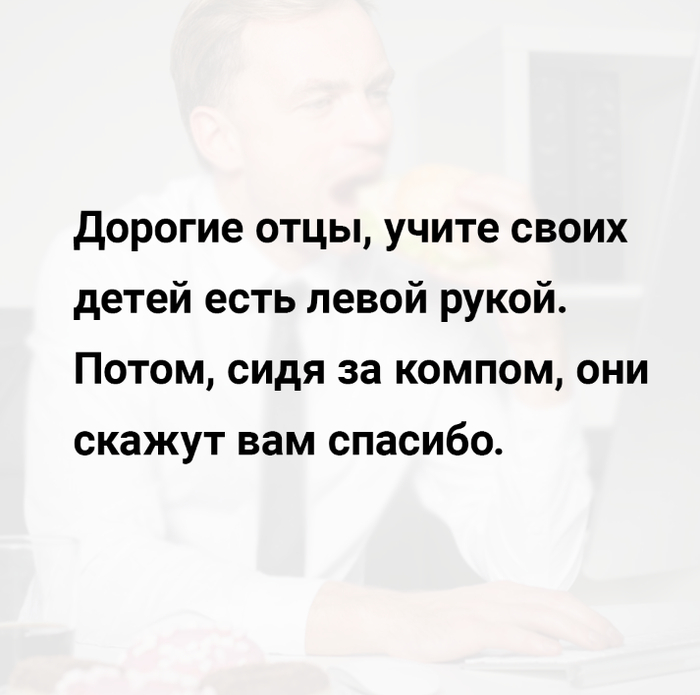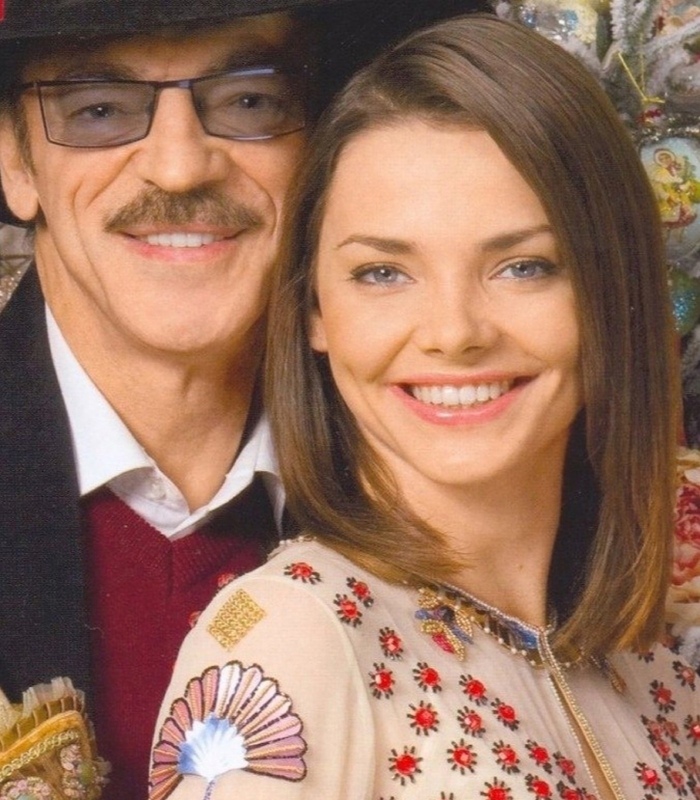Каждый раз, когда дочь хлопает дверью, я вижу себя
Этот звук. Хлопок двери. Бьёт по нервам каждый раз. Алиса опять ушла, хлопнув дверью так, что чашка на столе подпрыгнула. Семнадцать лет. Вся жизнь впереди. А я сижу с недопитым кофе и чувствую себя полным неудачником.
Мы все ходим по кругу
— Достал со своими допросами! — её последние слова перед уходом всё ещё звенят в ушах. — Имею право на личную жизнь!
Хлопок. И меня как будто швыряет на тридцать лет назад. В шкуру другого подростка. Меня самого.
— Куда намылился? — отец стоит в дверях. Руки в боки. Взгляд буравит насквозь.
— На улицу.
— К кому? Зачем? Когда домой?
Я тогда тоже закатил глаза. Точь-в-точь как Алиса сейчас.
— Да какая тебе разница? Всё равно тебе плевать.
Хлопок двери. И свобода, чёрт возьми! Помнишь это чувство? Как будто кандалы сбросил. Идёшь по улице, а внутри всё поёт: я взрослый! Я сам решаю!
И вот теперь я — тот самый отец. Стою как идиот посреди прихожей. И это просто жуть какая-то.
Когда срываешь стоп-кран
Вчера я психанул. По-настоящему. Алиса приползла домой в начале третьего. От неё несло сигаретами и чем-то ещё. Алкоголем? Травкой? Я даже думать об этом боюсь.
— Ты где шлялась до трёх ночи?! — я сам не заметил, как перешёл на крик. — Какого чёрта телефон не отвечает?!
— Сел телефон, — она даже не смотрела на меня. Ковыряла ключом замочную скважину. — Чего ты разорался? Ничего такого не случилось.
— Я НЕ РАЗОРАЛСЯ! — заорал я так, что сам испугался. И тут увидел в её глазах страх. Тот самый страх, который сам испытывал, когда отец выходил из себя.
Я заткнулся на полуслове. Вдох-выдох. Ещё раз.
— Иди спать, — выдавил я. — Завтра поговорим.
Она проскользнула мимо меня в свою комнату. А я так и остался стоять. Смотрел на свои трясущиеся руки.
«Твою мать. Я становлюсь им».
Отцы и дети. Вечная история
Мой отец не был каким-то чудовищем. Обычный мужик своего времени. Жёсткий. Суровый. Уверенный, что пацана нужно держать в ежовых рукавицах, а то вырастет тряпкой. Вкалывал на заводе. Приходил домой выжатый как лимон. С руками, вечно пахнущими машинным маслом. Ужинал. Включал телик. И не дай бог кто-то пикнет.
Я зарёкся быть таким. Поклялся, что буду другим отцом. Буду слушать. Понимать. Поддерживать. Никогда не подниму руку. Не унижу словом.
И вот я торчу на кухне в три часа ночи. Жду, когда её величество соизволит явиться домой. И чувствую, как внутри закипает что-то тёмное. Отцовское.
Наталья, жена моя, говорит, что я слишком мягкотелый с детьми. Особенно с Алисой.
— Ты её избаловал, — твердит она. — Она тебе на шею села и ноги свесила.
Может, она права? Может, я перегнул палку в другую сторону? Но каждый раз, когда я готов взорваться, перед глазами встаёт картинка: отец, его перекошенная от злости рожа, его кулак, грохнувший по столу.
Я так и не понял, где эта чёртова золотая середина.
Тот самый момент, когда всё пошло не так
Последний серьёзный разговор с отцом. Мне шестнадцать. Я приполз домой в хлам. Первый и последний раз в жизни. Дешёвое вино, выпитое с пацанами за гаражами. Желудок скручивает. В голове туман.
Отец ждал в коридоре. Молча смотрел, как я пытаюсь снять ботинки. Чуть не падаю.
— Значит так, — сказал он наконец. — Ты считаешь себя взрослым. Окей. Взрослые платят за свои поступки.
Он не орал. Не врезал мне. Просто развернулся и ушёл в свою комнату. А на следующий день, когда я, помирая с похмелья, выполз на кухню, он положил передо мной бумажку.
— Это счёт, — сказал он. — За хату, жратву, коммуналку. Твоя доля. Раз ты взрослый — плати как взрослый.
Я пялился на цифры. Не врубался. Таких денег у меня не было. И взяться им было неоткуда.
— Или живёшь по моим правилам, или вали и живи по своим, — добавил он. — Выбирай.
Я выбрал правила. Два года тихой ненависти. Два года подчинения. Два года планирования побега. А потом — институт в другом городе. Свобода. За которую я заплатил полным разрывом отношений.
Пять лет мы почти не общались. Я учился. Вкалывал на подработках. Жил в общаге. Потом снимал угол в коммуналке. Гордость не позволяла просить помощи. Обида жгла изнутри.
Мы начали налаживать отношения, только когда я уже крепко стоял на ногах. Неловкие звонки. Редкие приезды домой. Медленное оттаивание.
А потом он умер. Внезапно. Инсульт. И все слова, которые я хотел ему сказать, так и остались внутри.
То, чего я не ожидал найти
Разбирал его вещи. Нашёл дневник. Обычная тетрадка в клетку. Исписана его почерком. Я офигел. Не знал, что отец вёл дневник. Не знал, что он вообще умеет выражать свои мысли на бумаге.
«Андрей сегодня приперся бухой. Я не знаю, что делать. Мой отец бы меня ремнем отходил и выгнал из дома на ночь — так он сделал, когда поймал меня с сигаретой. Я не могу так с сыном. Но и спустить на тормозах тоже не могу. Он нормальный пацан, башковитый. Я не хочу, чтобы он связался с отморозками, спился, как Колька из соседнего подъезда. Может, я слишком давлю на него? Может, надо как-то по-другому? Но я не знаю как».
Я читал эти строки. И что-то внутри меня ломалось. Он переживал. Он сомневался. Он не знал, как правильно. Точно так же, как не знаю сейчас я.
В другой записи, в день моего отъезда в институт:
«Сегодня Андрей уехал. Я хотел сказать ему, что горжусь им. Что верю в него. Что буду скучать. Но не смог. Стоял как дурак, пока он грузил шмотки в автобус. Что со мной не так? Почему я не могу просто обнять своего сына?»
Я захлопнул тетрадь и разревелся. Первый раз с момента его смерти. Ревел о словах, которые мы не сказали. О моментах, которые не прожили. О стене между нами, которую мы так и не смогли сломать.
Момент истины
— Пап, нам надо поговорить, — Алиса стоит в дверях кухни. Бледная. С мешками под глазами.
Три часа ночи. Я жду её возвращения. Внутри всё кипит от злости и страха.
— Надо, — киваю я. Стараюсь говорить спокойно.
Она садится напротив. Дёргает рукав свитера.
— Я залетела.
Два слова. А как будто бомба взорвалась. В башке вихрь мыслей: «Ей же только семнадцать», «Что Наталья скажет?», «Кто этот козёл?», «Что теперь делать?»
Я смотрю на дочь. Вижу страх в её глазах. Тот самый страх, который, наверное, видел отец в моих глазах, когда я приполз домой бухим. Страх разочаровать. Страх, что тебя пошлют.
И вдруг доходит: вот он, момент. Тот самый момент, который определит наши отношения на годы вперёд. Момент, когда я могу повторить ошибку отца. Или найти другой путь.
— Точно? — спрашиваю я.
Она кивает. Ревёт.
— Тест показал. И у меня уже два месяца не...
— Понял, — перебиваю я. Не хочу подробностей. — Ты решила, что будешь делать?
Она смотрит офигевше. Ждала крика. Обвинений. Наказания. Чего угодно, но не этого вопроса.
— Я не знаю, — шепчет она. — Мне страшно.
Я встаю. Обхожу стол. Обнимаю её. Она вздрагивает. Потом прижимается ко мне, как в детстве.
— Прорвёмся, — говорю я, глажу её по волосам. — Что бы ты ни решила — мы с тобой.
Она ревёт у меня на плече. Я держу её. Чувствую, как внутри что-то отпускает. Цепь порвалась. История не повторится.
Жизнь продолжается
Сегодня Алиске двадцать пять. У неё своя жизнь. Своя хата. Своя семья. Малому Виктору — в честь моего бати — уже семь. Умный пацан. Серьёзный. С глазами, как у деда, которого он никогда не видел.
Мы с Алисой через такое дерьмо прошли. Через её решение родить. Через то, как этот козёл, папаша, свалил, когда запахло ответственностью. Через тяжёлые роды. Через первые месяцы с орущим младенцем. Через её депрессняк и мои срывы. Через её возвращение в институт и борьбу за диплом.
Были моменты, когда я психовал. Орал, что она жизнь себе ломает. Обвинял в безответственности. Хлопал дверью и уходил, не в силах справиться с накатившей злостью.
Но я всегда возвращался. Всегда извинялся. Всегда говорил, что люблю её. Даже когда бесился. Даже когда был разочарован.
И она тоже всегда возвращалась. Даже когда мы собачились. Даже когда она орала, что ненавидит меня и мои правила.
Сегодня она пришла к нам на ужин. Витька играет с дедовым старым конструктором. Наталья накрывает на стол. Алиса помогает ей. Они о чём-то шушукаются. Ржут.
Я смотрю на них. Думаю о своём отце. О том, что он так и не увидел, как его внучка выросла. Как справилась. Как стала сильной молодой женщиной, несмотря на весь этот трэш.
Я достаю старую тетрадь в клетку — батин дневник. Я перечитываю его каждый год. Нахожу что-то новое. Что-то, чего раньше не замечал.
«Я не знаю, правильно ли воспитываю сына. Боюсь, что слишком давлю на него. Но ещё больше боюсь, что если отпущу вожжи, он наделает глупостей, которые сломают ему жизнь. Я хочу защитить его от этого дерьмового мира. Хочу, чтобы у него всё было путём. Хочу, чтобы он был счастлив. Но не знаю, как это сделать».
Я закрываю тетрадь. Улыбаюсь. Теперь я тебя понимаю, бать. Теперь я знаю, что ты чувствовал. И надеюсь, что где-то там ты видишь нас. И понимаешь: несмотря на все косяки, ты был нормальным отцом. Ты научил меня главному — любить своих детей, даже когда это чертовски трудно. Особенно когда это чертовски трудно.
— Пап, ты идёшь? — зовёт Алиса. — Всё остынет!
— Иду, — отвечаю я, убирая тетрадь.
Я иду к своей семье. К столу, где меня ждут. И когда Витька ржёт, запрокинув башку точно так же, как ржал мой отец в редкие моменты веселья, я чувствую, что круг замкнулся. Что все мы — звенья одной цепи. И что любовь, несмотря на все наши косяки, всё-таки сильнее страха.
Каждый раз, когда я слышу, как хлопает дверь, я вспоминаю, как сам уходил от отца. Но теперь я знаю: важно не то, как мы уходим. Важно то, что мы возвращаемся. И что нас ждут.