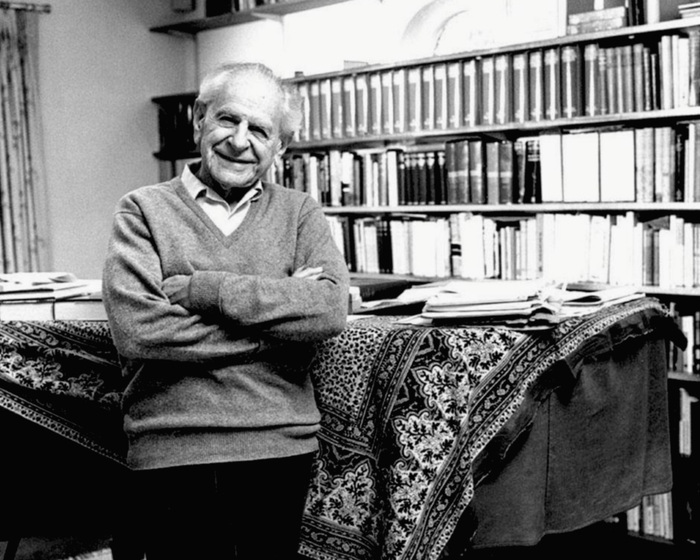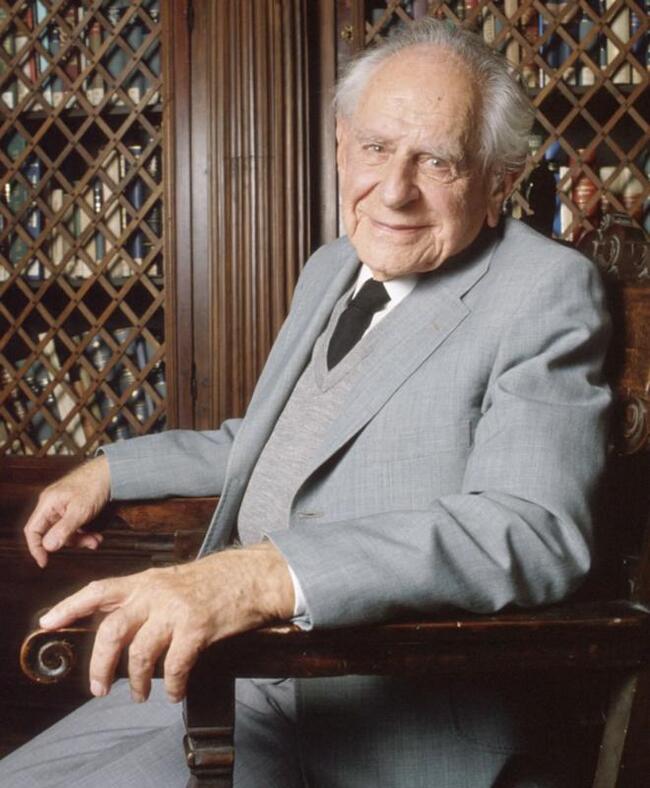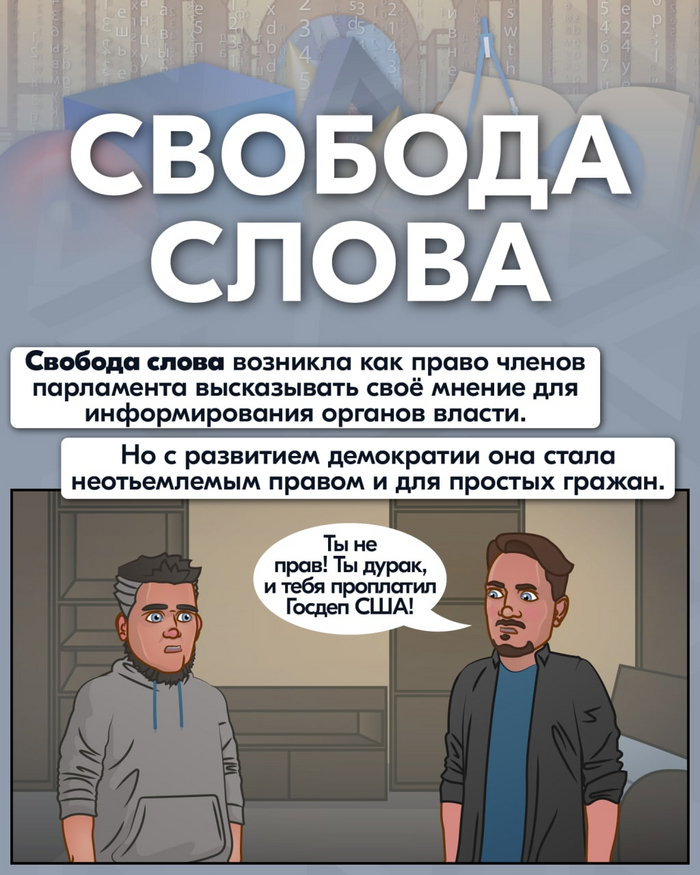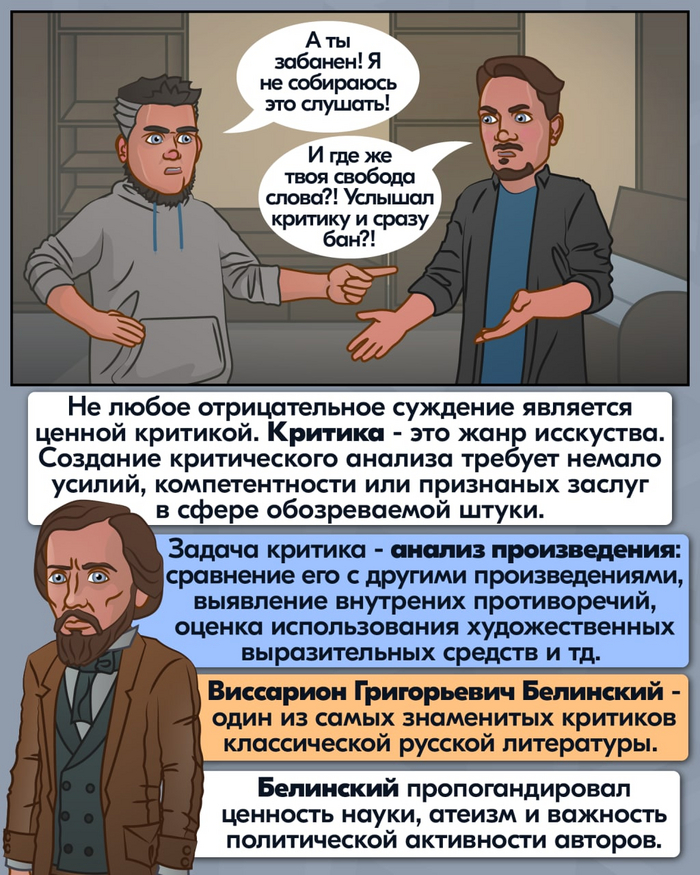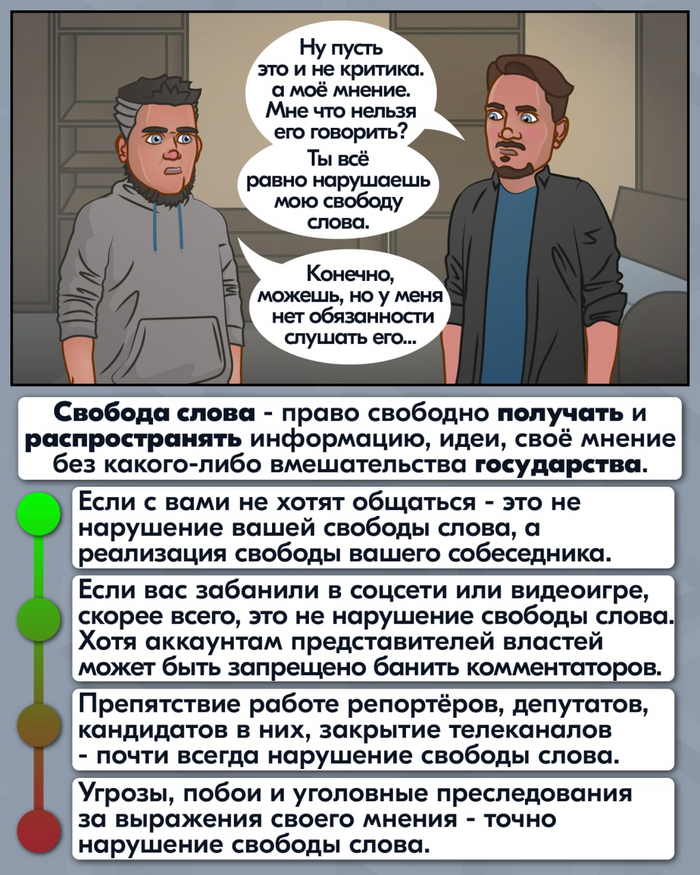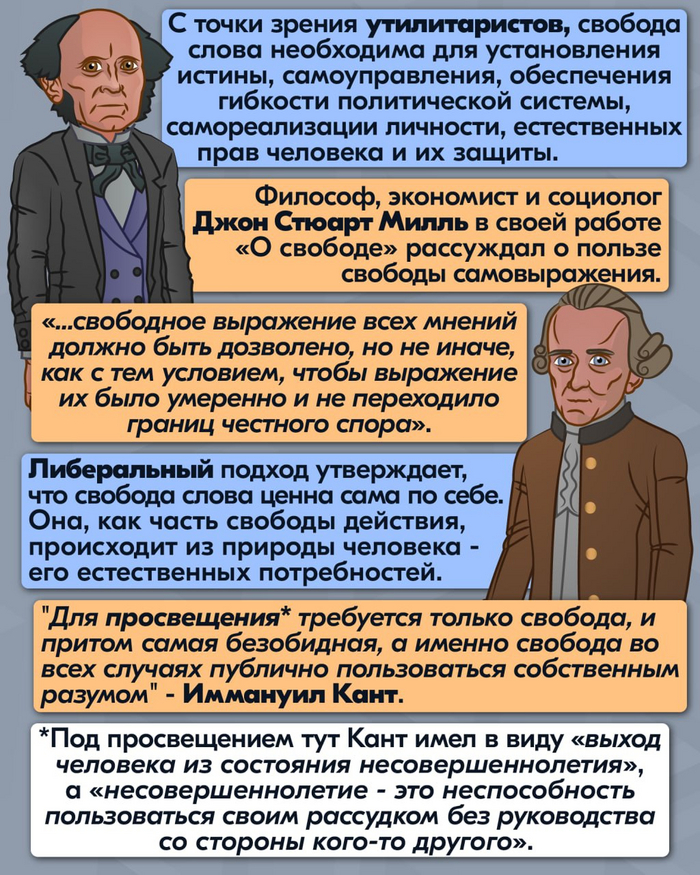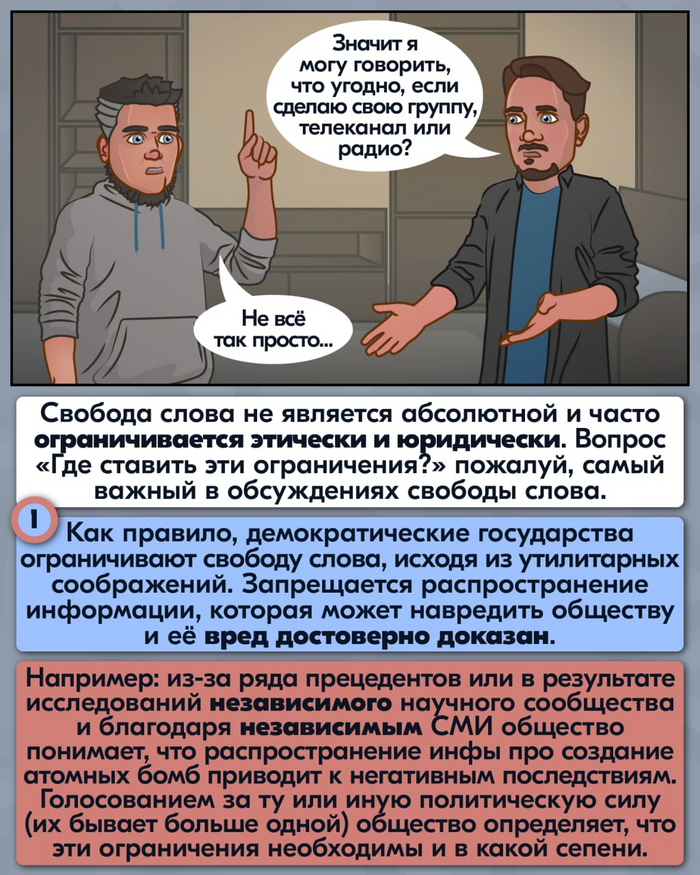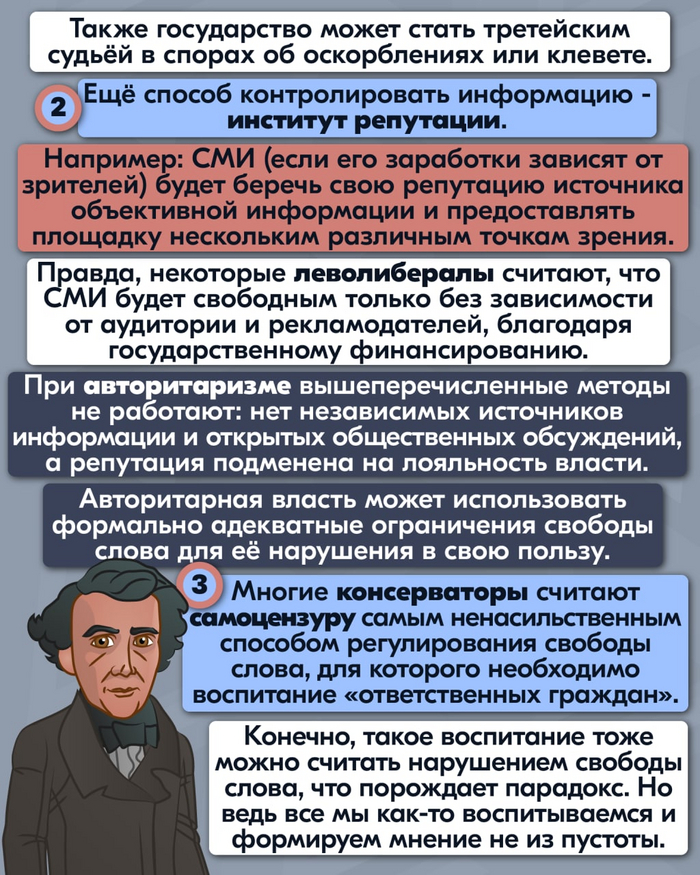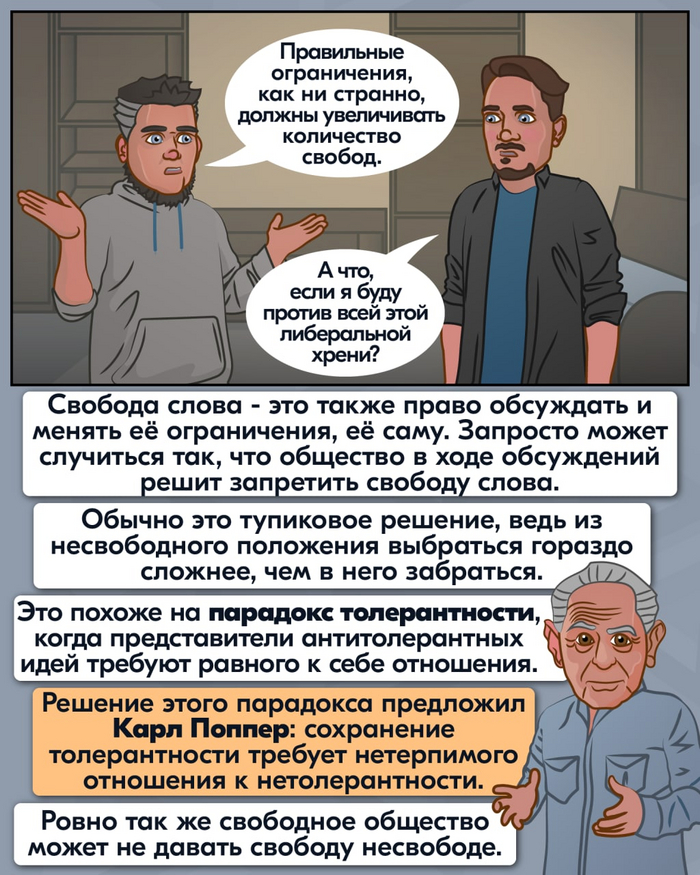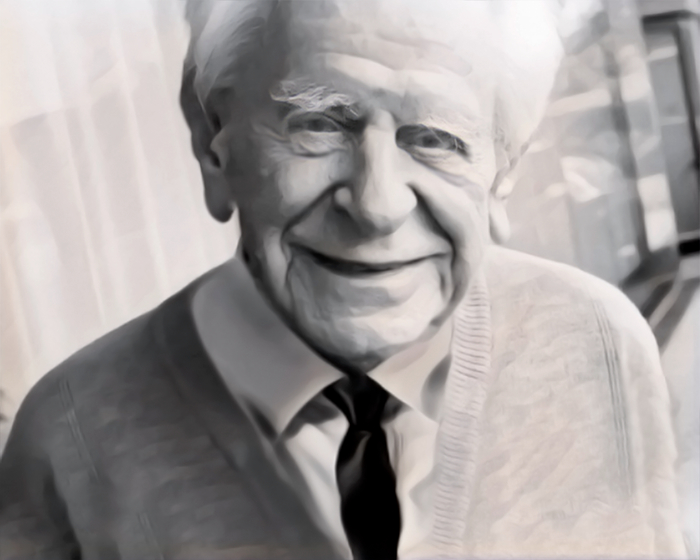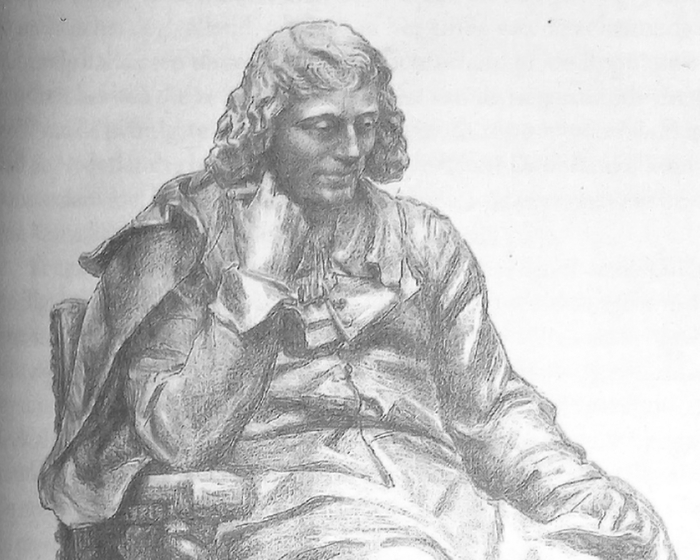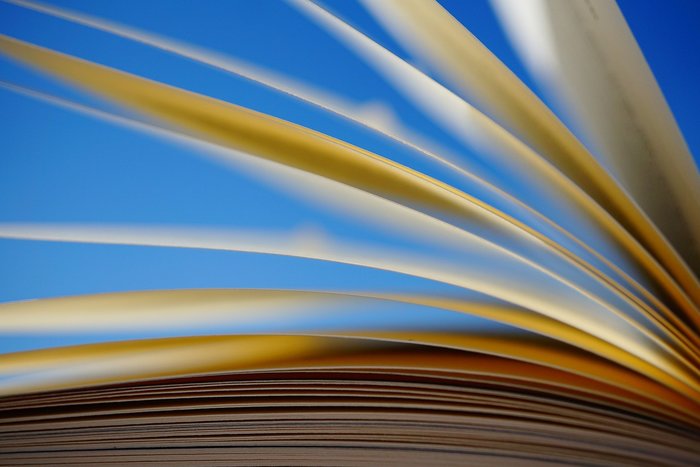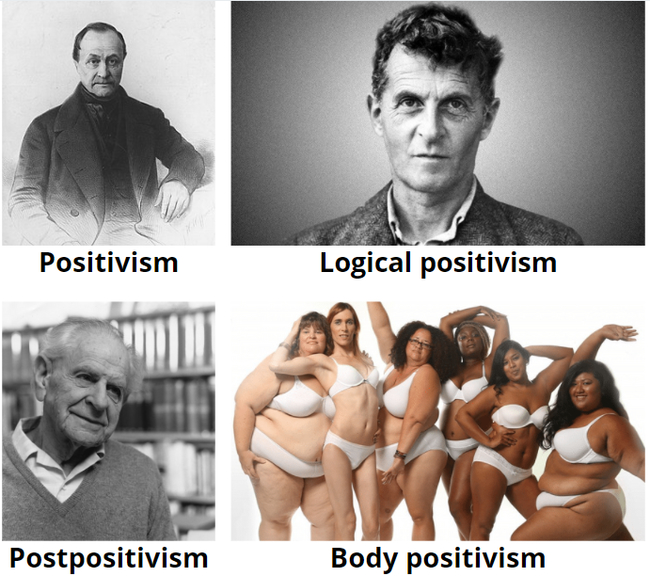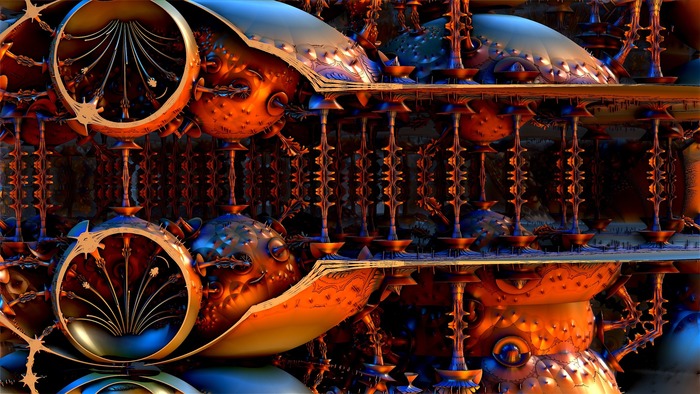Причины и смысл странной политики Трампа
То, что происходит сейчас в США – это не просто смена власти, а изменения цивилизационного масштаба.
Первые недели второго срока администрации Трампа оказались бурными. Как и многие, я поражён скоростью и масштабом блицкрига, который Трамп и его команда развернули против постоянного управленческого аппарата в Вашингтоне. Он уже выполнил многие из приоритетов, самым важным из которых было отказ от консерватизма в отношении институтов и использования законной власти. Администрация Трампа 2.0 с её подходом «просто берёшь и делаешь» кажется первой администрацией, всерьёз нацеленной на выполнение демократического запроса на реальные перемены в американском управлении со времён Франклина Рузвельта.
На самом деле, события развиваются настолько стремительно, что уследить за ними становится трудно. Поэтому мне сложно говорить о деталях происходящего. Любая попытка сделать это быстро устареет. Но среди хаоса, вызванного десятками судьбоносных решений – от попытки аннексии Гренландии до закрытия границ, введения торговых тарифов и демонтажа USAID – начинает вырисовываться более широкая картина.
Недавно снова стало популярным высказывание покойного Генри Киссинджера 2018 года, в котором он рассуждал о том, не является ли Трамп одной из тех исторических фигур, которые появляются время от времени, чтобы ознаменовать конец эпохи и заставить её отказаться от старых иллюзий. Если в 2018 году это ещё не было правдой, то сейчас – определённо так. Я убеждён, что мы наблюдаем конец эпохи, тектонический сдвиг привычного нам мира, масштабы которого мы пока не осознали.
Более того, я считаю, что Дональд Трамп знаменует собой запоздалый конец Долгого Двадцатого века.
Долгий Двадцатый век
125 лет, прошедшие между Французской революцией 1789 года и началом Первой мировой войны в 1914 году, позже стали называть «Долгим Девятнадцатым веком». Этот термин подчёркивает, что «девятнадцатый век» – это не просто сто календарных лет, а целая эпоха, пропитанная духом экспансии, империй и Просвещения, основанная на триумфальном уповании на разум и прогресс. Этот исторический дух, уникальный и непохожий на предыдущие или последующие, был окончательно погребён в окопах Великой войны. После катастрофы, завершившейся лишь со Второй мировой войной, всё – от политики и психологии до искусства и духовности – изменилось.
Р. Р. Рено начинает свою книгу «Возвращение сильных богов» (2019) с цитаты молодого человека, который говорит: «Мне 27 лет, и я надеюсь дожить до конца двадцатого века». Это парадоксальное утверждение передаёт мысль о том, что двадцатый век продлился гораздо дольше официальной даты его окончания в 2000 году. Наш Долгий Двадцатый век начался поздно, окончательно оформившись только в 1945 году, но за 80 лет он определил, как наша цивилизация понимает мир и своё место в нём. Он установил набор страхов, ценностей и моральных догм, а через глобальную мощь США сформировал политический и культурный порядок во всём мире.
Дух Долгого Двадцатого века разительно отличался от предыдущей эпохи. После ужасов Второй мировой войны политические элиты Америки и Европы логично сделали «никогда снова» центральным принципом своего мировоззрения. Они коллективно решили, что фашизм, война и геноцид никогда больше не должны угрожать человечеству. Но это решение, каким бы разумным и благими намерениями оно ни казалось, быстро превратилось в одержимость отрицанием.
Такие влиятельные либеральные мыслители, как Карл Поппер и Теодор Адорно, убедили послевоенную элиту в том, что фундаментальным источником авторитаризма и конфликтов является «закрытое общество». По словам Рено, такое общество характеризуется «сильными богами»: твёрдыми убеждениями и истинами, жёсткими моральными нормами, глубокими связями с семьёй, обществом и историей – всеми теми объектами любви и преданности, которые объединяют людей.
Теперь же объединяющая сила этих «сильных богов» стала восприниматься как опасность – как источник фанатизма, угнетения, ненависти и насилия. Вера, семья и особенно нация стали подозрительными, воспринимаемыми как реликты прошлого, ведущие к фашизму. Адорно, оказавший огромное влияние на американскую психологию и образовательную политику, считал, что естественная привязанность к семье и нации – признаки латентной «авторитарной личности», склонной к ксенофобии и культу вождя. Поппер в своей книге «Открытое общество и его враги» (1945) вообще отверг идею национального сообщества, объявив её «антигуманитарной пропагандой». Любовь к своей стране и истории стала восприниматься как опасный «расизм». Для таких интеллектуалов любая иерархия – моральная, социальная или метафизическая – представлялась смертельной угрозой миру.
Великим проектом послевоенного либерализма стало разрушение стен закрытого общества и изгнание его богов. На его месте должна была возникнуть идиллическая, но предельно расплывчатая концепция «открытого общества», основанного на слабых богах толерантности, сомнения, диалога, равенства и потребительского комфорта. Эта доминирующая идеология черпала вдохновение у Адорно и Поппера и стремилась реформировать общество, чтобы размыть истины, поставить «критическое мышление» выше характера, дискредитировать коллективную идентичность, нивелировать иерархии и разрушить границы.
Как отмечает Рено, новые подходы в образовании, психологии и управлении сводились к разрушению устоев, устранению авторитетов и стиранию границ. Универсальный гуманизм стал единственной допустимой высшей целью, помимо экономического роста.
Антифашизм двадцатого века превратился в крестовый поход, парадоксально наполненный фанатизмом и нетерпимостью. Поставив во главу угла «никогда снова», идеология открытого общества сосредоточилась на главном зле (summum malum), а не на высшем благе (summum bonum). Гитлер стал своего рода светским Сатаной, нависшей над XX веком тенью, вечным искушением человечества.
После Холодной войны этот процесс лишь ускорился. Падение СССР казалось окончательной победой открытого общества, и постсоветская элита удвоила усилия по перестройке мира в соответствии с этой доктриной. 9/11 ещё больше укрепил веру в то, что любая нетерпимость угрожает толерантности повсюду.
Если вы спрашивали себя, почему USAID тратил миллионы долларов на продвижение «разнообразия, равенства и инклюзивности» в Сербии, «расширение атеизма» в Непале или обучение журналистов Шри-Ланки избегать «гендерно-бинарного языка», теперь у вас есть ответ. Это та же причина, по которой США десятилетиями финансировали организации, нарушающие иммиграционные законы и поощряющие открытые границы. Они считали, что борются со «зомби-Гитлером», попутно получая за это огромные деньги. Именно поэтому всех, кто возражал, автоматически объявляли фашистами.
Тем временем развитие консенсуса «открытого общества» шло рука об руку с универсальным ростом управленческого государства и его вытеснением демократического самоуправления. Между этими явлениями существовала прямая и намеренная связь. Как отмечал Карл Шмитт еще в начале XX века, «стихийный импульс» либерализма заключается в «нейтрализации» и «деполитизации» политики – то есть в попытке устранить фундаментальные споры из политической сферы из страха перед конфликтом, сводя саму «политику» к простому административному управлению. Это изъятие политического из политики лежало в основе структурных целей послевоенного проекта. Как и предсказывал Шмитт, целью стало достижение вечного мира через «эпоху техничности», в которой политика сводилась бы к более безопасным и предсказуемым движениям машины путем наделения властью якобы нейтральных механизмов – таких как бюрократические процессы, юридические решения и экспертные технократические комиссии.
Подлинное общественное обсуждение действительно политических вопросов, особенно со стороны демократических масс, склонных к «фашизму», теперь считалось слишком опасным, чтобы его допускать. Вместо этого послевоенное создание «открытого общества» мечтало о достижении управления посредством научного менеджмента, о превращении политической сферы в «социальную технологию… результаты которой могут быть проверены социальным инжинирингом», как выразился Поппер. Функционирование этой машины затем могло бы быть ограничено кругом тщательно отобранных и обученных «институциональных технологов», по терминологии Поппера.
Так произошло великое расширение современных управленческих режимов, включая американское «глубинное государство», которое администрация Трампа и Илон Маск теперь пытаются демонтировать. Характеризуемые обширными постоянными административными структурами неподотчетных бюрократий, такие режимы управляются олигархической элитой технократов, обученных социальному инжинирингу, манипуляции якобы нейтральными процессами, притворному сочувствию, искусству дезинформации и судебной логике уклонения от рисков. Одержимое управление общественным мнением с помощью пропаганды и цензуры также стало особенно важным приоритетом таких режимов, причем целью было как сдерживание демократических результатов (чтобы защитить «демократию» от масс), так и в целом подавление серьезных общественных дискуссий по спорным, но фундаментальным политическим вопросам (например, по вопросам массовой миграции) в попытке предотвратить гражданские конфликты.
Этот управленческий импульс к деполитизации не ограничивался национальным уровнем. Создание «основанного на правилах либерального международного порядка» – в котором все политические конфликты управлялись бы квазиимперскими наднациональными структурами (такими как ООН и ЕС), а войны между государствами стали бы пережитком варварского прошлого – стало вершиной послевоенных западных амбиций. Поддерживаемый военной мощью США и их союзников, этот новый международный порядок не терпел бы несанкционированных конфликтов, деполитизируя мир и позволяя открытым обществам процветать в мире.
Долгий двадцатый век характеризовался этими тремя взаимосвязанными послевоенными проектами: прогрессивным открытием обществ путем разрушения норм и границ, консолидацией управленческого государства и гегемонией либерального международного порядка. Надежда состояла в том, что вместе они могли бы сформировать основу для мира, который наконец достиг бы мира на земле и доброй воли между всеми людьми. То, что этот мир оказался бы слабым, бесстрастным, недемократичным и детально управляемым технократическим рационализмом, было жертвой, на которую послевоенный консенсус был готов пойти.
Но эта мечта не сбылась, потому что «сильные боги» отказались умирать.
Восстановление богов
Мэри Харрингтон недавно заметила, что «трампистская революция» кажется столь же архетипической, сколь и политической, отмечая, что в целом «ликование мужчин» по поводу недавних действий Илона Маска и его «отряда» молодых технарей по демонтажу укоренившейся бюрократии можно «понять архетипически как [их] битву против гигантского, миазматического врага, целью которого является уничтожение мужского героизма как такового». Этот пронизанный мужественностью дух тумотического витализма подавлялся на протяжении Долгого двадцатого века, но теперь он вернулся. И это произошло не потому, что «процедуристская, управленческая цивилизация не порождала собственных ужасов». Теперь «мы в реальном времени наблюдаем, как такие фигуры, как герой, король, воин и пират, или даже различные типы антигероев, снова возвращаются в общественную сферу».
Вместо того чтобы создать утопический мир мира и прогресса, консенсус открытого общества и его мягкие, слабые боги привели к цивилизационному разложению и отчаянию. Как и задумывалось, сильные боги истории были изгнаны, религиозные традиции и моральные нормы дискредитированы, общинные связи и лояльность ослаблены, различия и границы разрушены, а дисциплины самоуправления переданы технократическому управлению сверху вниз. Неудивительно, что это привело к тому, что национальные государства и более широкая цивилизация утратили силу, чтобы удерживать себя вместе, не говоря уже о защите от внешних угроз со стороны не-открытых, не-иллюзорных обществ. Короче говоря, кампания радикального самоотречения, проводимая консенсусом открытого общества в послевоенный период, фактически стала коллективным пактом о самоубийстве либеральных демократий Западного мира.
Но по мере того как реальность начала вторгаться за последние два десятилетия, доля людей, все еще убежденных в туманных обещаниях открытого общества, неуклонно уменьшалась. Началась реакция, особенно среди тех, кто был наиболее оторван от его устаревших навязчивых идей и пострадал от них: молодежи и рабочего класса. «Популизм», который сейчас охватывает Запад, лучше всего понимать как демократическое требование восстановления и реинтеграции уважения к тем «сильным богам», которые способны укоренять, объединять и поддерживать общества, включая целостные национальные идентичности, сплоченные природные лояльности и признание объективных и трансцендентных истин.
Сегодняшний популизм – это не просто реакция на десятилетия предательства элит и ужасного управления (хотя и это тоже), но и глубокое, подавленное тумотическое стремление к давно назревшим действиям, к освобождению от удушающей летаргии процедурного управленчества и к страстной борьбе за коллективное выживание и собственные интересы. Это возвращение политического в политику. Оно требует восстановления старых добродетелей, включая жизненно важное чувство национальной и цивилизационной самоуважения. А это, в свою очередь, требует отказа от патологической «тирании вины» (как назвал ее французский философ Паскаль Брюкнер), которая охватила западный ум с 1945 года. По мере того как сила бесконечных истеричных обвинений в «фашизме» постепенно угасает, мы – к лучшему или к худшему – начинаем свидетелствовать конец Эпохи Гитлера.
Энергичный национальный популизм, таким образом, представляет собой отказ от всех ключевых одержимостей и требований XX века и консенсуса открытого общества. Похоже, что бесстрастное правление слабости, терпимости и унылого универсального утилитаризма как моральных и политических идеалов подходит к концу. А это значит, что геронтократия Долгого двадцатого века, наконец, умирает. Именно это и символизирует Трамп во всей своей дерзости: сильные боги вырвались из изгнания и вернулись в Америку, увлекая за собой XXI век.
Рассвет нового века
Сам Трамп — человек действия, а не размышлений (не говоря уже о самобичевании), и он явно обладает высоким порогом чувствительности к риску. Он действует инстинктивно, а не расчетливо. Он ориентирован на отношения, а не на рационализм, ценит преданность и обладает обостренным чувством чести. Он произносит общеизвестные истины, не заботясь о том, оскорбляют ли они чьи-то чувства, и у него мало терпения к бесконечному «диалогу» или установленным процедурам. Будучи беззастенчивым националистом, он без колебаний применяет силу в интересах Америки и ставит эти интересы выше интересов других стран. Иными словами, он не просто причина или симптом популистского переворота, но в некотором смысле олицетворение всего мятежного нового духа, который сегодня разрушает старый порядок.
Политика Трампа во втором президентском сроке также отражает этот новый дух времени. Его молниеносные указы ударили по трем столпам Долгого Двадцатого Века: закрытие границ страны и очищение государства от последней идеологической эволюции ортодоксии «открытого общества» («Разнообразие, Равенство, Инклюзивность»), одновременно побуждая широкую культуру следовать этому примеру; демонтаж управленческого государства, в том числе путем утверждения прямого личного контроля избранного исполнительного органа над процедурной бюрократией (то есть демократически неконтролируемой и неподотчетной); и преобразование внешней политики США, отказавшись от либерального процедурного подхода в международной сфере, ставя национальные интересы выше интересов «международного порядка» и отказываясь автоматически играть роль мирового блюстителя правил.
Одна лишь дерзость этих действий свидетельствует не просто о партийных политических маневрах, а сама по себе означает крах старой парадигмы: теперь «вы снова можете просто делать вещи». Этот менталитет не наблюдался в Америке со времен Франклина Делано Рузвельта и его революционного правительства, которое заново создало страну и сформировало современное управленческое государство; никто не осмеливался даже пошатнуть этот механизм со времен Второй мировой войны. Теперь Трамп осмелился.
За рубежом и в Вашингтоне такая вызывающая позиция вызвала немало недоумения и беспокойства («Почему Трамп угрожает вторжением в Мексику, запугивает Канаду и хочет аннексировать Гренландию у союзника по НАТО? Разве он не должен был быть изоляционистом?»). Однако принцип, лежащий в основе всех этих действий Трампа, на самом деле довольно прост: он готов использовать американскую мощь в любой ситуации, если это принесет пользу нации, и его мало заботит сохранение либерального международного порядка ради самого порядка или следование вежливым фикциям вроде международного права. Оказывается, «на мировой арене тоже можно просто делать вещи». Дипломатия и альянсы логически рассматриваются как ценные только постольку, поскольку они приносят пользу Америке. Именно это всегда означало «Америка прежде всего». Таким образом, «Доктрина Трампа» — это всего лишь отказ от невротического, избегающего конфронтации послевоенного консенсуса в пользу восстановления стандартной мускулистой внешней политики США в духе Западного полушария, характерной для президентов XIX — начала XX века, таких как Эндрю Джексон, Уильям Мак-Кинли или Теодор Рузвельт.
Новый госсекретарь Марко Рубио даже открыто назвал идеализм глобального либерального международного порядка, обеспечиваемого США, «аномалией», отметив, что «он был продуктом конца холодной войны» и что «рано или поздно мир должен был вернуться к многополярности, с несколькими великими державами в разных частях планеты». Этот процесс возрождения духа национального суверенитета и международного соперничества, по-видимому, уже распространяется и вдохновляет поворот к «сильным богам» по всему миру. Как недавно заявил консервативно-националистический премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на собрании европейских популистов: «Наш друг Трамп, торнадо по имени Трамп, изменил мир всего за несколько недель. Эпоха закончилась. Сегодня всем очевидно, что будущее принадлежит нам».
Таким образом, на поверхностном уровне революция Трампа может показаться просто возвращением к либертарианству 1990-х годов, с его индивидуальной свободой и рыночной философией «жадность – это хорошо», но на самом деле он представляет собой гораздо более значительный сдвиг: не назад, а скорее вперед — более чем на столетие. Глобалистский неолиберализм, интервенционистский универсализм и наивный социальный прогрессизм открытого общества 90-х мертвы и забыты. Несмотря на политический союз с прогрессивистами из Силиконовой долины, новый мир Трампа в значительной степени постлиберальный.
Реакционные пережитки
Неудивительно, почему Трамп так ужасает стареющую аристократию Долгого Двадцатого Века: они больше всего боятся возвращения «сильных богов», которых их проект морального и политического переустройства мира был призван навсегда изгнать.
Обратите внимание, например, на растущую панику в предостережениях (перемежающихся или сливающихся с обвинениями в фашизме) о приближающейся угрозе «христианского национализма». Этот термин объединяет двух «сильных богов» — национализм и религию — и потому особенно пугает как призрак. Это также объясняет, почему определенный тип вялых консерваторов (в интернет-лексиконе их вежливо называют «куксервативами») проявляет истерию в отношении Трампа и популизма. Такой тип и вправду консервативен, но лишь в том смысле, что его главная цель — сохранить статус-кво, осуждая любые решительные действия, включая законное использование демократической власти, способные нарушить консенсус «открытого общества». Хотя он может критиковать отдельные «перегибы» прогрессивизма, угрожающие этому консенсузу, в глубине души такой человек служит слабым богам управленческой робости.
Уже восемь десятилетий старая элита, и левые, и правые, объединена приоритетом «открытого общества» и его ценностей. Хотя некоторых американцев удивило, что фигуры вроде Дика Чейни, ранее ассоциировавшиеся с правыми, встали на сторону левых на прошлых выборах, этого следовало ожидать. Чейни был радикальным сторонником консенсуса «открытого общества» — в форме неоконсерватизма, американского «воинствующего ордена», насаждавшего евангелие открытости по всему миру силой оружия. В этом он никогда не отличался от таких левых, как Джордж Сорос, основавший институт с говорящим названием (Фонд «Открытое общество») и использовавший его влияние для подрыва консервативных культур по всему миру, включая США.
То, что оба действовали как влиятельные наследники западного истеблишмента, не противоречиво, а логично, ведь их объединял консенсус «открытого общества». Даже самые радикальные «контркультурные» бунтари 1960-х таковыми не были: их цели совпадали с послевоенным истеблишментом — постепенное «раскрытие» общества. Они спорили лишь о скорости изменений, и вскоре элита приняла их пыл, впитав в себя.
Трамп и популистско-националистические движения стали первым реальным разрывом с этим консенсусом. Они возвещают рождение иного мира.
Открывается новый мир
Несмотря на одержимость «открытостью», послевоенный мир «открытого общества» всегда был, по-своему, замкнутым и душеным. Это мир, где человеческая природа, само наше человечество, воспринимается с подозрением — как нечто опасное, требующее контроля, подавления и сдерживания или, еще лучше, переплавки в безотказный винтик предсказуемой, бездушной машины. Его мечта о совершенной свободе, равенстве, рационализме и пассивности — это мир, «где не может биться великое сердце и дышать великая душа», как выразился Эрнст Юнгер.
С самого начала Долгого Двадцатого Века прозорливые либеральные мыслители, такие как Лео Штраус, предупреждали: попытка игнорировать реальность и изгнать ценности «закрытого общества» ради «планеты без правителей и подчиненных» неизбежно приведет к бунту, кровопролитию и саморазрушению. Догматичное отрицание «закрытости», по Штраусу, подрывает добродетели — верность, долг, мужество, любовь к своему — на которых зиждется любое общество. Как метко замечает Мэтью Роуз, Штраус понимал, что «сильные боги» закрытого общества — «это вечные истины, не атавизмы, как бы они ни раздражали прогрессистов». А общество, не способное их утверждать, «приглашает катастрофу — не меньше, чем общество, не способное их подвергнуть сомнению».
Однако эти предостережения проигнорировали. Травмы XX века превратили национализм, даже саму идею различия между «нами» и «ими», в табу. Необходимость баланса между «закрытыми» и «открытыми» ценностями для здоровья общества десятилетиями замалчивалась.
Теперь «сильные боги» возвращаются в мир хаотично, по мере того как виталистический неоромантизм нашей эпохи реформации рушит ветшающие стены «открытого общества». Их возвращение несет риски — но возвращение риска и есть суть. Сила богов в их мощи: они могут быть страшны и опасны, но именно поэтому способны защитить. Открытым остается вопрос: удастся ли гармонично встроить эту необходимую силу в наши общества, или мир снова погрузится в пучину конфликтов и войн.
Но выбора у нас уже нет: возвращение «сильных богов» неизбежно. Мы живем в новом веке. Долгий Двадцатый Век исчерпал себя, оставив Западу мир атомизации, апатии, самоотречения и мелкой безликой тирании. Наши общества либо примут возрождение, либо исчезнут, уступив место более сильным и сплоченным культурам.
Как верно заключил Рино в книге «Возвращение сильных богов»: «Наше время — этот век — требует политики верности и солидарности, а не открытости и распада. Нам нужно не больше разнообразия и инноваций, а дом». Дай Бог, чтобы, вступив в XXI век, мы все смогли вновь обрести этот дом.
N.S. Lyons
American Strong Gods