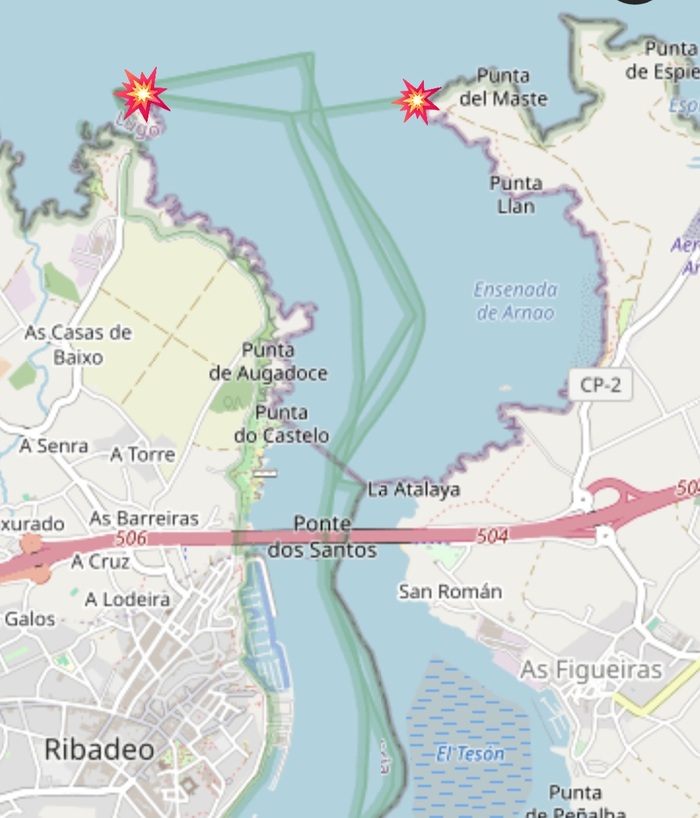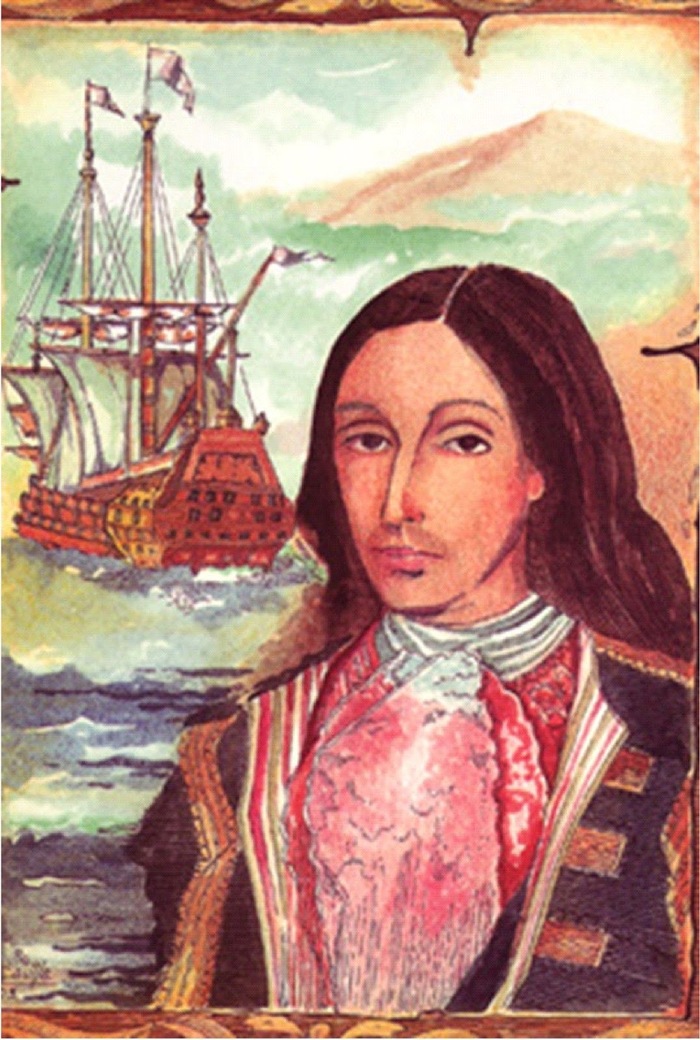Германия: Наша постдемократия
автор Роберто Де Лапуэнте
Постдемократия: делать вид, что это демократия — сохраняя видимость, поддерживая ритуалы демократических процедур, но лишая их содержания. Постдемократия — это упразднение культуры спора и заключение в тесные рамки, где даже самые простые демократические процессы больше ничего не дают, не работают — да и не должны работать.
Американский политолог Шелдон Уолин использовал термин "постдемократия" за несколько лет до того, как британский социолог Колин Крауч познакомил с ним широкую публику. Предполагается, что Уолин заимствовал его у французского философа Жака Рансьера. В книге Крауча 2004 года, которая так и называлась — "Постдемократия", это явление получило чёткие очертания. Упрощённо говоря: постдемократия — это спектакль, призванный привести к апатии. Пугало, которое усыпляет. По сути, её следует понимать как деполитизацию политики.
Нам, современникам, это состояние должно быть хорошо знакомо - слишком долго эта "форма государственного устройства" уже сопровождает нас. Для молодёжи это единственная нормальность, которую они знают. Наблюдатели постарше ощущают опустошение демократических процессов - они замечают, как спектакль занимает их место. Во время недавних коалиционных переговоров между двумя партиями, которые якобы смертельно враждебны друг другу, можно было вновь наблюдать постдемократическую природу этой республики.
Первая в своём роде
Насколько нова эта идея - саботировать демократические устремления через фиктивную демократию? Является ли это недавним изобретением? Потребовались ли правящим элитам десятилетия, чтобы понять, как можно замедлить "демократическую угрозу" их делам до приемлемого уровня - так, чтобы она больше не представляла опасности, но при этом не пришлось открыто скатываться в диктатуру, которая по своей природе довольно затратна и хлопотна?
Концепция отнюдь не нова - первая постдемократия была установлена поразительно быстро. Тем, кто немного знаком с новой историей Испании, точнее - с периодом системы Реставрации, возможно, встречалось понятие «Пакт Эль-Пардо» (Pacto del Pardo). Это название стало символом межпартийной фиктивной демократии, которая с 1885 года определяла лицо реставрационной Испании.
Когда в упомянутом году король Альфонсо XII скончался, его сын ещё даже не родился. Вдова монарха Мария Кристина взяла на себя регентство до достижения им совершеннолетия. Чтобы сохранить монархию в этот сложный период, две главные партии той эпохи - либералы и консерваторы - заключили соглашение. Они решили прекратить межпартийную борьбу и вообще отказаться от предвыборных кампаний. Договор, заключённый в королевском дворце Эль-Пардо, предусматривал фальсификацию выборов таким образом, чтобы власть попеременно переходила между двумя "договорными партнёрами". Список премьер-министров того периода читается как заунывная монотонная песня: Антонио Кановас, Пракседес Матео Сагаста, Антонио Кановас, Пракседес Матео Сагаста, Антонио Кановас...
Эта межпартийная договорённость - вообще не утруждать себя различными политическими позициями и взглядами, а объединиться во имя некой высшей цели - в определённом смысле знакома и нам сегодня. Или, иначе говоря: Испания эпохи Пакта Эль-Пардо была, пожалуй, первой постдемократией, которую когда-либо видел этот континент.
Да здравствует король!
Разумеется, Испания до этого пакта не была образцовой демократией, которую можно мерить современными стандартами. Там существовало цензовое избирательное право, допускавшее к урнам лишь немногих - что, кстати, облегчало фальсификации. Позже ввели всеобщее мужское избирательное право, увеличив число допущенных к голосованию. Однако даже эту "малую волю избирателей" всё равно искажали. Хотя надо понимать: манипуляции с результатами выборов тогда нельзя путать с сегодняшней легкостью, с которой "обводят вокруг пальца" народное волеизъявление - особенно посредством демоскопии. Да и монархия сегодня не та. Теперь речь идёт о венценосной главе экономической доктрины, которую мы называем неолиберализмом и которой восклицаем: Да здравствует король!
Таким образом, консерваторы Кановаса и либералы Сагасты договорились, что и эта крупица демократии, дарованная в эпоху Второй Реставрации, будет принесена в жертву некой высшей цели исключительной важности. Причём сделано это было без лишения людей их скромных демократических радостей и без отмены избирательного права. Они ведь действительно могли голосовать - даже если выбора у них не было. То ощущение, что они наконец-то достигли демократии - эту иллюзию избирателям всё же позволили сохранить.
Ларс Клинбайль, конечно, не Сагаста, а Фридрих Мерц — не Кановас — история слишком сложна, чтобы допускать даже отдалённо похожие эпизоды. Но сама эта идея демократической структуры, которая должна сохраняться, но при этом не мешать приоритетным интересам, уже весьма напоминает наше современное понимание «демократии». Сегодняшний человек вполне может представить, как Кановас диктует придворным летописцам в их блокноты, что конституционализм должен быть формой демократии, угодной монархии — совсем как в наши дни «вечная канцлер» заменила монархию рынком, чтобы воздать хвалу королю нового времени.
«Противопожарная стена» (против АдГ): Фрагмент постдемократической реальности
Пакт Пардо продержался примерно до начала двадцатых годов XX века. Либералы и консерваторы сменяли друг друга в правительстве и подавляли всевозможные современные веяния в испанском обществе, сохраняя систему, которая уже давно отжила свой век. Затем они скатились к диктатуре Примо де Риверы. Испания времен пакта Пардо притупила, деполитизировала испанское население и, безусловно, подготовила почву для романтизма о единой сильной руке, которая должна упорядочить хаос государства. Апатия стала настолько распространенной, что «демократия» воспринималась как беззубая система, в которой интересы граждан больше не принимались во внимание.
Короткая интерлюдия под названием Вторая республика привела к гражданской войне и снова к диктатуре. Она также была более продолжительной.
Пакт, упразднивший политическую культуру спора и практически предписавший двум устоявшимся партиям взаимную адаптацию, не только фактически ликвидировал сопротивление диктаторским тенденциям, но даже способствовал им. Ибо последующие после Пакта Эль-Пардо события лишь подтверждают это. Мы уже также достигли этой точки в нашей постдемократической реальности — даже «Противопожарную стену» можно считать частью постдемократического культивирования. Потому что оно имитирует демократический процесс, который скрывается за сменяющимися правительствами, всегда имеющими одно и то же содержание. Когда такая практика окончательно закостеневает, переход от постдемократии к диктатуре становится плавным. И чтобы это окончательно прояснить: демонтаж «Противопожарной стены» не превратит постдемократию в демократию. Та самая партия, которую подвергают остракизму, в конечном счете тоже представляет собой лишь порождение постдемократической системы.