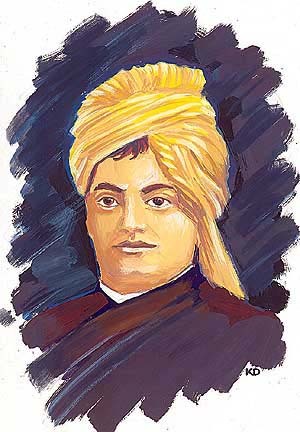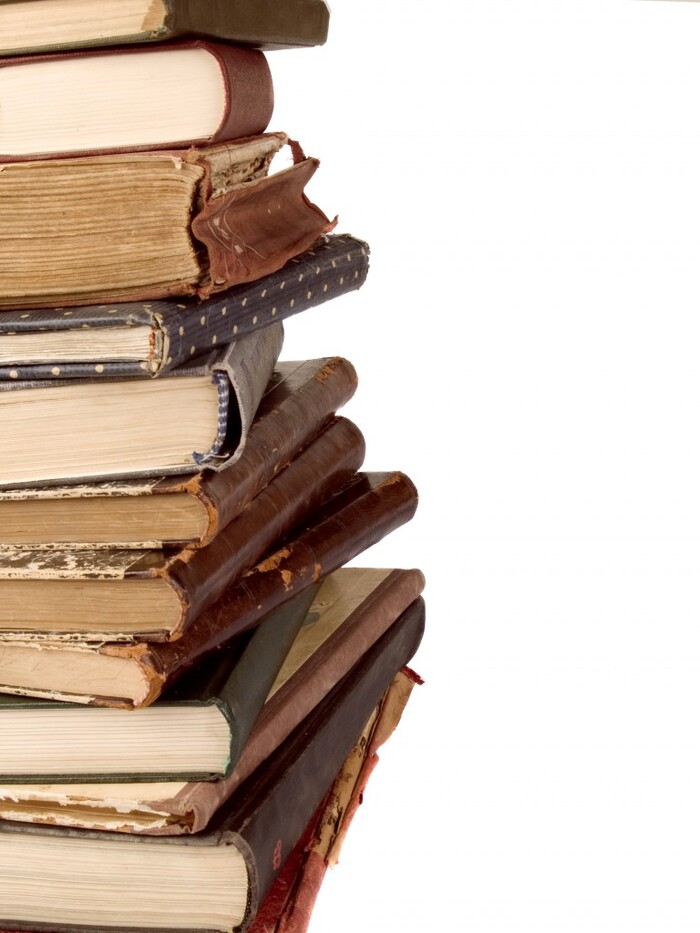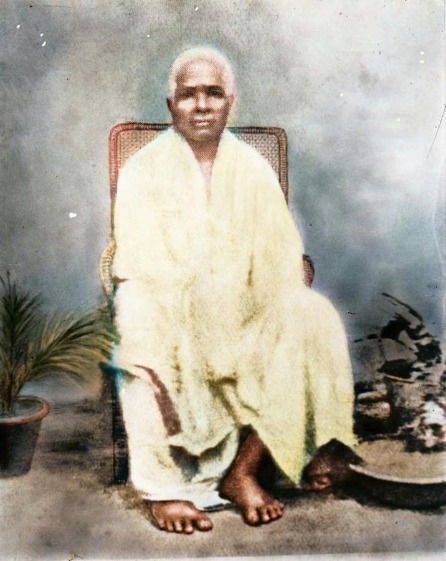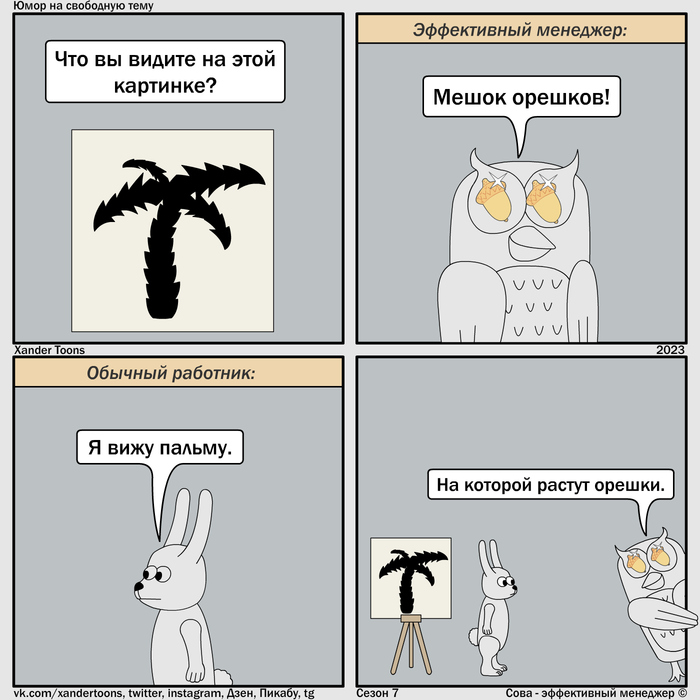Данная статья относится к Категории ✨ Качественные уровни творчества
Карл Юнг — швейцарский психиатр и психолог. Основоположник аналитической психологии
Карл Юнг выделял два качественно различных подхода к творчеству, имеющих – по его мнению – различные источники:
«Ради ясности я хотел бы обозначить первый тип творчества как психологический, а второй – как визионерский.
Психологический тип имеет в качестве своего материала такое содержание, которое движется в пределах досягаемости человеческого сознания, как-то: жизненный опыт, определённое потрясение, страстное переживание, вообще человеческую судьбу, как её может постигнуть или хотя бы прочувствовать обычное сознание. Этот материал воспринимается душой поэта, поднимается из сферы повседневности к вершинам его переживания и так оформляется, что вещи, сами по себе привычные, воспринимаемые лишь глухо или неохотно и в силу этого также избегаемые или упускаемые из виду, убеждающей силой художественной экспрессии оказываются перемещёнными в самый освещённый пункт читательского сознания и побуждают читателя к более высокой ясности и более последовательной человечности. Изначальный материал такого творчества происходит из сферы вечно повторяющихся скорбей и радостей людских; он сводится к содержанию человеческого сознания, которое истолковывается и высветляется в своем поэтическим оформлении. Поэт уже выполнил за психолога всю работу. Или последнему нужно ещё обосновывать, почему Фауст влюбляется в Гретхен? Или почему Гретхен становится детоубийцей? Всё это – человеческая судьба, миллионы раз повторяющаяся вплоть до жуткой монотонности судебного зала или уголовного кодекса. Ничто не осталось неясным, всё убедительно объясняет себя из себя самого.
На этой линии находятся многочисленные типы литературной продукции: любовный, бытовой, семейный, уголовный и социальный романы, дидактическое стихотворение, большая часть лирических стихотворений, трагедия и комедия. Какова бы ни была художественная форма этих произведений, содержание психологического художественного творчества происходит неизменно из областей человеческого опыта, из психического переднего плана, наполненного наиболее сильными переживаниями. Я называю этот род художественного творчества «психологическим» именно по той причине, что он вращается всегда в границах психологически понятного. Всё от переживания и до творческого оформления проходит в сфере прозрачной психологии. Даже психологически изначальный материал переживания не имеет в себе ничего необычного; напротив, здесь то, с чем мы в наибольшей степени свыклись, страсть и её судьбы, судьбы и вызываемые ими страдания, вечная природа человека с её красотами и ужасами.
Пропасть, которая лежит между первой и второй частями «Фауста», отделяет также психологический тип художественного творчества от визионерского типа. Здесь дело во всех отношениях обстоит иначе: материал, т.е. переживание, подвергающееся художественной обработке, не имеет в себе ничего, что было бы привычным; он наделен чуждой нам сущностью, потаённым естеством, и происходит он как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества, то ли светлых, то ли тёмных, – некое первопереживание, перед лицом которого человеческой природе грозит полнейшее бессилие и беспомощность. Значимость и весомость состоят здесь в неимоверном характере этого переживания, которое враждебно и холодно или важно и торжественно встает из вневременных глубин; с одной стороны, оно весьма двусмысленного, демонически-гротескного свойства, оно ничего не оставляет от человеческих ценностей и стройных форм – какой-то жуткий клубок извечного хаоса или, говоря словами Ницше, какое-то «оскорбление величества рода человеческого», с другой же стороны перед нами откровение, высоты и глубины которого человек не может даже представить себе, или красота, выразить которую бессильны любые слова.
Потрясающее зрелище мощного явления повсюду выходит за пределы человеческого восприятия и, разумеется, предъявляет художественному творчеству иные требования, нежели переживание переднего плана. Последнее никогда не раздирает космической завесы; оно никогда не ломает границы человечески возможного и как раз по этой причине вопреки всем потрясениям, которые оно означает для индивида, легко поддаётся оформлению по законам искусства. Напротив, переживание второго рода снизу доверху раздирает завесу, расписанную образами космоса, и дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и ещё не ставшего. Куда, собственно, в состояние помрачнённого духа? в изначальные первоосновы человеческой души? в будущность нерождённых поколений? На эти вопросы мы не можем ответить ни утверждением, ни отрицанием.
... Воплощенье, перевоплощенье,
Живого духа вечное вращенье...
Проведение мы встречаем в «Пэмандре», в «Пастыре» Гермы, у Данте, во второй части «Фауста», в дионисийском переживании Ницше, в произведениях Вагнера («Кольцо Нибелунга», «Тристан». «Парсифаль»), в «Олимпийской весне» Шпиттелера, в рисунках и стихотворениях Уильяма Блейка, в «Гипнеротомахии» монаха Франческо Колонна, в философско-поэтическом косноязычии Якоба Бёме и в порой забавных, порой грандиозных образах Гофманова «Золотого горшка». [...]
В отношении материала психологического творчества не возникает вопрос, из чего он состоит или что он должен означать. Но здесь, перед лицом визионерского неразложимого переживания, этот вопрос встаёт самым непосредственным образом. Читатель требует комментариев и истолкований; он удивлён, озадачен, растерян, недоверчив или, ещё того хуже, испытывает отвращение. Ничто из области дневной жизни человека не находит здесь отзвука, но взамен этого оживают сновидения, ночные страхи и жуткие предчувствия тёмных уголков души.
Публика в своём подавляющем большинстве отвергает такой материал, если только он не связан с грубой сенсацией, и даже цеховой знаток литературы нередко выдаёт своё замешательство, Конечно, Данте и Вагнер несколько облегчили для последнего его положение, ибо у Данте исторические события, а у Вагнера данности мифа окутывают неразложимое переживание и могут быть по недоразумению приняты за «материал». Но у обоих поэтов динамика и глубинный смысл сосредоточены не в историческом, но в мифологическом материале, они коренятся в выразившем себя через них изначальном видении. […]
Поразительно, что в самом строгом контрасте с материалом психологического творчества над происхождением визионерского мaтepиaлa разлит глубокий мрак – мрак, относительно которого многим хочется верить, что его можно сделать прозрачным. Точнее, люди естественным образом склонны предполагать – сегодня это усилилось под влиянием психологии Фрейда, – что за всей этой то уродливой, то вещей мглой должны стоять какие-то чрезвычайно личные переживания, из которых можно объяснить странное видение хаоса и которые также делают понятным, почему иногда поэт, как кажется, ещё и сознательно стремится скрыть происхождение своего переживания. От этой тенденции истолкования всего один шаг до предположения, что речь идёт о продукте болезни, продукте невроза; этот шаг представляется тем менее неправомерным, что визионерскому материалу свойственны некоторые особенности, которые можно встретить также в фантазиях душевнобольных, Равным образом продукт психоза нередко наделён такой веской значительностью, которая встречается разве что у гения. Отсюда естественным образом возникает искушение рассматривать весь феномен в целом под углом зрения патологии и объяснять образы неразложимого видения как орудия компенсации и маскировки.
Представляется, что этому явлению, обозначаемому мной как «первовидение», предшествовало некоторое переживание личного и интимного характера, переживание, отмеченное печатью «инкомпатибильности», т.е. несовместимости с определёнными моральными категориями. Делается предположение, что проблематичное событие было, например, любовным переживанием такого морального или эстетического свойства, что оно оказалось несовместимым или с личностью в целом, или, но меньшей мере, с функцией сознания, но каковой причине Я поэта стремилось целиком или хотя бы в существенных частях вытеснить это переживание и сделать его невидимым («бессознательным»). Для этой цели, согласно такой точке зрения, и мобилизуется весь арсенал патологической фантазии, поскольку же этот порыв предъявляет собой не дающую удовлетворения попытку компенсации, то он обречен возобновляться вновь и вновь в почти бесконечных рядах творческих продуктов. Именно таким образом будто бы и возникло всё непомерное изобилие пугающих, демонических, гротескных и извращённых образов – отчасти для компенсации «неприемлемого» переживания, отчасти же для его сокрытия.
Подобный подход к психологии творческой индивидуальности получил такую известность, которую не приходится игнорировать, к тому же представляя собой первую попытку «научно» объяснись происхождение визионерского материала и заодно психологию итого своеобразия произведения искусства. Я исключаю отсюда свою собственную точку зрения, предполагая, что она в меньшей степени известна и усвоена, чем только что набросанная гипотеза.
Сведение визионерского переживания к личному опыту делает это переживание чем-то ненастоящим, простой компенсацией. При этом визионерское содержание теряет свой «характер изначальности», «изначальное видение» становится симптомом, и хаос снижается до уровня психической помехи. Объяснение мирно покоится в пределах упорядоченного космоса, относительно которого практический разум никогда не постулировал совершенства. Его неизбежные несовершенства – это аномалии и недуги, которые предполагаются принадлежащими к человеческой природе. Потрясающее прозрение в бездны, лежащие по ту сторону человеческого, оказывается всего-навсего иллюзией, а поэт – обманутым обманщиком. Его изначальное переживание было «человеческим, слишком человеческим», и притом до такой степени, что он даже не способен в этом себе признаться, но вынужден скрывать это от себя. Весьма важно ясно представить себе эти неизбежные последствия сведения всего на личную историю болезни, ибо в противном случае не видно, куда ведет такой тип объяснений: ведет же он прочь от философии художественного произведения, которую он заменяет психологией поэта. Последнюю невозможно отрицать. Однако и первая равным образом самостоятельно существует и не может быть просто упразднена подобным «tour de passe-passe», когда её превращают в некоторый личный «комплекс». Для чего нужно произведение поэту, означает ли оно для него шутовскую игру, маскировку, страдание или действование, до этого нам в настоящем разделе не должно быть дела.
Наша задача состоит скорее в том, чтобы психически объяснить само произведение, а для этого необходимо, чтобы мы принимали всерьёз его основу, т.е. изначальное переживание, в такой же мере, как это делается в отношении психологического типа творчества, где никто не может усомниться в реальности и серьёзности легшего в основу вещи материала. Безусловно, здесь много труднее проявить необходимую веру, ибо вся видимость говорит за то, что визионерское изначальное переживание есть нечто, никак не соотнесенное со всеобщим опытом. Это переживание так фатально напоминает тёмную метафизику, что благонамеренный разум чувствует себя принужденным вмешаться. А он неизбежным образом приходит к выводу, что такие вещи вообще невозможно принимать всерьёз, ибо в противном случае мир вернётся к самым мрачным суевериям.
Тот, у кого нет предрасположенности к «оккультным» материям, видит в визионерском переживании «богатую фантазию», «поэтические причуды» или «поэтическую вольность». Некоторые поэты способствуют этому, ибо они обеспечивают себе здоровую дистанцированность от собственных вещей тем, что заявляют, как Шпиттелер, что вместо «Олимпийской весны» прекрасно можно было бы пропеть «Май пришёл!». Поэты как-никак тоже люди, и то, что поэт говорит о своей вещи, далеко не принадлежит к лучшему, что о ней можно сказать. Таким образам, речь идёт ни больше ни меньше как о том, что мы должны защищать серьёзность изначального переживания ко всему прочему ещё и против личного сопротивления самого автора.
«Пастырь» Гермы, так же как «Божественная комедия» и «Фауст», наполнены отголосками первичного любовного переживания, а своё увенчание и завершение получают через визионерское переживание. У нас нет никаких оснований допускать, что нормальный способ переживать вещи в первой части «Фауста» отрицается или маскируется во второй части; равным образом нет и какого бы то ни было основания допускать, что Гёте во время работы над первой частью был нормальным индивидом, а ко времени второй части сделался невротиком. На протяжении огромной, тянущейся почти через два тысячелетия последовательности ступеней Герма – Данте – Гёте мы всюду находим личное любовное переживание в незамаскированном виде не только рядом с более важным визионерским переживанием, но и в подчинении ему. Это свидетельство весьма существенно, ибо оно доказывает, что (независимо от личной психологии автора) в пределах самого произведения визионерская сфера означает более глубокое и сильное переживание, нежели человеческая страсть. В том, что касается произведения (которое ни в коем случае не следует путать с личным аспектом авторского индивида), нет сомнения, что визионерство есть подлинное первопереживание, что бы ни полагали на этот счёт поборники рассудка. Оно не приставляет собой нечто произвольное, нечто вторичное, некий симптом – нет, оно есть истинный символ, иначе говоря – форма выражения для неведомой сущности. Как любовное переживание означает, что пришлось пережить некоторый действительный факт, так и визионерское переживание; физическую, душевную или метафизическую природу имеет его содержание, мы не беремся решать. Здесь перед нами психическая реальность, которая по меньшей мере равноценна физической.
Переживание человеческой страсти находится в пределах сознания, предмет визионерского лежит вне этих пределов. В чувстве мы переживаем нечто знакомое, но вещее чаяние ведет нас к неизвестному и сокровенному, к вещам, которые таинственны по самой своей природе. Если они когда-либо и были познаны, то их намеренно утаивали и скрывали, и поэтому им с незапамятных времен присущ характер тайны, жути и неоткровенности. Они скрыты от человека, а он из суеверия, буквально «боязни демонов» прячется от них, укрываясь за щит науки и разума. Упорядоченный космос есть его дневная вера, которая призвана уберечь его от ночных страхов хаоса, – просвещение из страха перед ночной верой! Что же, и за пределами человеческого дневного мира живут и действуют силы? Действуют с необходимостью, с опасной неизбежностью? Вещи поковарнее электронов? Что же, мы только воображаем, что наши души находятся в нашем обладании и управлении, а в действительности то, что наука именует «психикой» и представляет себе как заключённый в черепную коробку знак вопроса, и конечном счете есть открытая дверь, через которую из нечеловеческого мира время от времени входит нечто неизвестное и непостижимое по своему действию, чтобы в своем ночном полете вырывать людей из сферы человеческого и принуждать служить своим целям? Положительно может показаться, что любовное переживание иногда просто высвобождает иные силы, мало того, что оно бессознательно «аранжировано» для определённой цели, так что лично человеческое приходится рассматривать как своего рода затакт к единственно важной «божественной комедии». […]
Если мы для начала не будем считаться с предположением, что хотя бы «Фауст» есть личная компенсация для склада сознания Гёте, то возникает вопрос, в каком отношении подобная вещь находится к сознанию эпохи и не следует ли рассматривать это отношение опять-таки как компенсацию. Великое творение, порождённое душой человечества, было бы, по моему мнению, при этом исчерпывающе объяснено, если бы речь шла о его возведении к личному. Дело в том, что всякий раз, как коллективное бессознательное прорывается к переживанию и празднует брак с сознанием времени, осуществляется творческий акт, значимый для целой эпохи, ибо такое творение есть в самом глубинном смысле весть, обращённая к современникам. Поэтому «Фауст» задевает что-то в душе каждого немца, поэтому Данте пользуется неумирающей славой, а «Пастырь» Гермы в своё время едва не стал канонической книгой. Каждое время имеет свою однобокость, свои предубеждения и свою душевную жизнь. Временная эпоха подобна индивидуальной душе, она отличается своими особенностями, специфически ограниченными свойствами сознания и поэтому требует компенсации, которая со своей стороны может быть осуществлена коллективным бессознательным лишь таким образом, что какой-нибудь поэт или духовидец выразит все невысказанное содержание времени и осуществит в образе или деянии то, что ожидает неосознанная всеобщая потребность».
Карл Юнг. Психология и поэтическое творчество, в Сб.: Самосознание европейской культуры ХХ века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / Сост.: Р.А. Гальцева, М. «Политиздат», 1991 г. с. 106-114.
Фрагмент текста цитируется согласно ГК РФ, Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях.
Если публикация Вас заинтересовала – поставьте лайк или напишите об этом комментарий внизу страницы.
Дополнительные материалы
+ Ваши дополнительные возможности:
Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультации третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.
Задать вопросы Вы свободно можете здесь:
Изображения в статье
Карл Юнг — швейцарский психиатр и психолог. Основоположник аналитической психологии / ORAEDES & На фоне — картинка сгенерирована нейросетью «Шедеврум»
Изображение от bedneyimages на Freepik
Изображение от Freepik
Photo by Arto Marttinen on Unsplash
Изображение от Sketchepedia на Freepik
Изображение от rawpixel.com на Freepik
Photo by Anton Darius on Unsplash
Картинка сгенерирована нейросетью «Шедеврум»