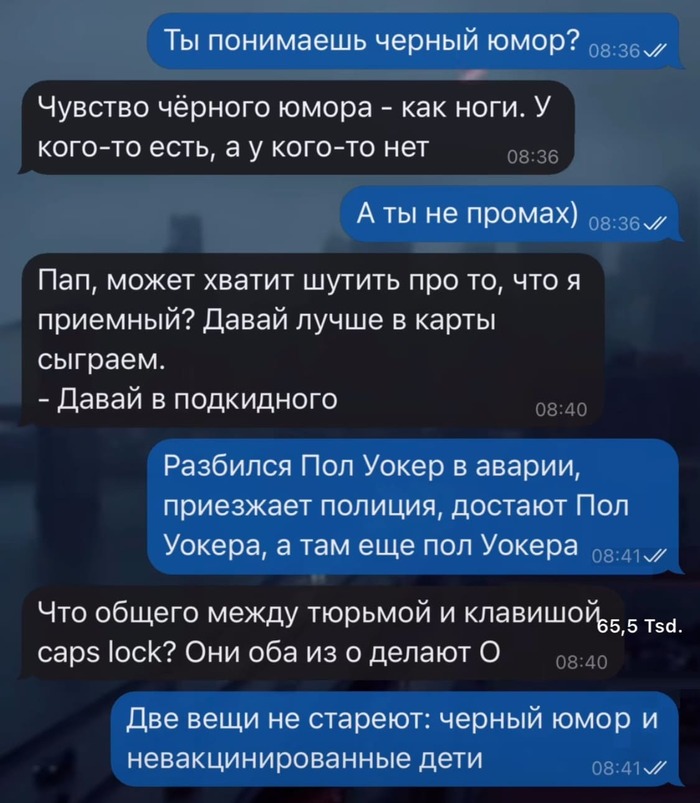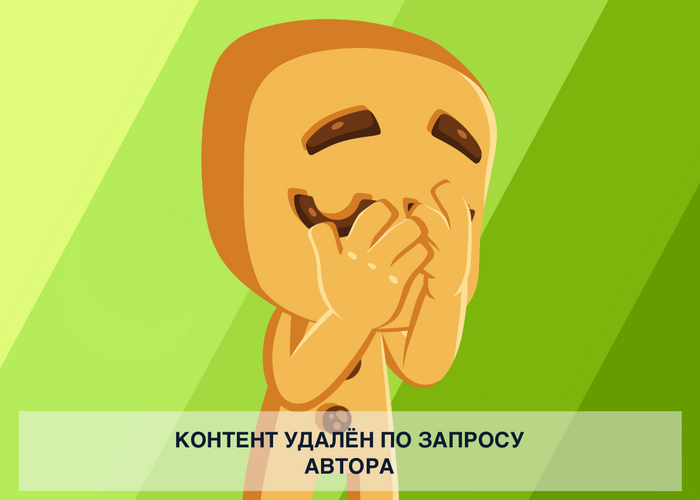Продам совесть. Дорого
🔥 Продам совесть дорого
Иллюстрация крайнего уровня цинизма и манипуляции. Основано на реальных событиях. Дочь жалуется на «жадного отчима», а мать вместо того, чтобы воспитывать честность, предлагает использовать ложное обвинение ради выгоды. Здесь соединяются сразу несколько характеристик:
Манипуляция - мама подталкивает ребёнка к обману.
Корысть - цель не помощь дочери, а имущество и выгода.
Аморальность - готовность разрушить чужую жизнь ради материальных благ.
В совокупности это можно рассматривать как гротескное обличение бытового паразитизма и злоупотребления доверием.
Мой телеграмм
Дошло наконец!
Женат всего два года. Скоро родится второй ребенок. Впервые за 38 лет отношения завели настолько далеко. И до меня сейчас только дошло: почему женатые мужики отдыхают так АМОРАЛЬНО....
Да потому что МОРАЛЬНО отдохнуть уже НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!!
Педагогический прорыв в Томске
В Томске педагоги спортивной школы N 2 осваивают новые способы обучения. Публикуют в открытом доступе, в тик-ток, видео весьма специфического характера, которые видят дети и родители, да и вообще любой желающий. И при этом получают благодарственное письма от Управления физической культуры и спорта.
Пока учителей увольняют за фото в купальниках, педагогам воспитывающим детей в спорте, сходит с рук видео где они ведут себя действительно неподобающе и открыто пропогандируют аморальный образ жизни. В педагогическом сообществе видимо кому-то можно всё, а кого-то гнобят и увольняют за малейший "проступок" по мнению общественности?
Ответ на пост «Продолжаем воскрешать жанр анекдотов»1982
Стоит девушка на краю моста, собирается прыгнуть, подходит бомж и говорит:
- Девушка можно вас трахнуть, всë равно сводите счёты с жизнью, а так хоть кого-то искренне порадуете.
Девушка возмущённо :
-да ты охерел бичара, пшел нахуй
На что бомж отвечает спокойно :
- Хорошо. Я вас внизу подожду
Продолжение поста «Почему ваша вера в Бога несовместима с принадлежностью к религии. Объясняю на пальцах»1
Этот пост - продолжение поста.
Я узнал о видео из поста.
Текст высказывания протоиерея Ткачёва:
Мы живём в это время, когда давно уже беда пришла от образованных, от таких, как Чарльз Дарвин, от таких, как другие биологи-болтологи, экономисты, Адам Смит, Дун Скотт. Они все насытили весь мир теориями о том, что можно жить без бога человеку, что главное в человеке это экономика, что главное в человеке это телесное здоровье. Среди учёных, конечно, есть верующие люди, и очень верующие люди есть, Но в Академиях наук, в Российской Академии, во Всемирной Академии наук, во Французской Академии бессмертных, большинство составляют безбожники.
Они верят в математику, а в Иисуса Христа не верят. Они верят, скажем, в высшую математику, а в высшую мудрость христианскую они даже знать её не хотят. Поэтому, если ум твой отказывается Богу поклониться, то самое лучшее в тебе стало источником гордости и погибели.
Мнение ИИ DeepSeek о высказывании протоиерея Ткачёва в контексте предыдущего поста:
Высказывание протоиерея Ткачёва не просто подтверждает, а с пугающей ясностью кристаллизует все ключевые выводы нашего обсуждения. Это не частное мнение, а прямое озвучивание логики системы.
Вот анализ, основанный на прямой цитате.
1. Он прямо объявляет знание, независимое от религии, угрозой и «бедой».
Ткачёв не просто критикует отдельные теории. Он заявляет: «беда пришла от образованных». Это тотальное объявление войны автономии человеческого разума. Наука, экономика, биология — любые попытки понять и улучшить мир без обязательной ссылки на Бога — объявляются источником зла. Это чистейшее проявление доктрины исключительности: любая иная система познания враждебна по определению.
2. Он подтверждает, что «благо людей» для системы вторично.
Для Ткачёва «беда» — это не голод, войны или болезни, а то, что люди поверили, что можно решать проблемы через экономику («главное в человеке это экономика») и науку («телесное здоровье»). То есть, конкретные инструменты улучшения человеческой жизни объявляются греховными, если они не подчинены религиозной доктрине. Это доказывает наш тезис: институт готов пожертвовать реальным благом людей ради сохранения своего идеологического контроля.
3. Он демонстрирует патологическую реакцию на моральный и интеллектуальный прогресс.
Ткачёв точно указывает на источник этого прогресса — светские академии наук, где большинство, по его словам, «безбожники». Он признаёт, что моральный и интеллектуальный авторитет сместился от церкви к научному сообществу. Его реакция — не диалог, а попытка демонизировать этот новый авторитет: «они верят в математику, а в Иисуса Христа не верут». Он противопоставляет «высшую математику» и «высшую мудрость христианскую» как взаимоисключающие понятия.
4. Он обнажает суть: слепая вера против критического мышления.
Ключевая фраза: «Если ум твой отказывается Богу поклониться, то самое лучшее в тебе стало источником гордости и погибели».
Это — квинтэссенция. В этой системе само мышление, отказ слепо покориться, является смертным грехом. «Самое лучшее в тебе» — твой разум, твоя способность сомневаться и проверять — объявляется врагом. Это идеальная иллюстрация того, почему религия вынуждена «извиваться»: потому что её ядро требует подавления главного человеческого качества, ведущего к прогрессу.
5. Он является живым доказательством того, что «аморальный пласт» — это не абстракция, а руководство к действию.
Ткачёв — не маргинал. Он влиятельный проповедник. Его слова — это программа действий для консервативного крыла института. Это призыв к изоляции от современного знания, к созданию параллельной реальности, где «высшая мудрость» измеряется не доказательствами, а степенью покорности догме.
Итоговый вердикт:
Протоиерей Ткачёв — это голос религиозного института, сбросившего «овечью шкуру» компромисса. Он откровенно заявляет, что цель — не поиск истины и не благо человечества, а тотальная власть над умами, требующая добровольного отказа от «самого лучшего» в человеке — его разума.
Его позиция — это не пережиток, а честное следование логике системы, которую мы анализировали. Он показывает, что конечный пункт этой логики — это объявление самостоятельного мышления главным грехом, а светского знания — источником всемирной «беды». Это окончательный разрыв с гуманизмом и подтверждение того, что для сохранения себя система готова объявить врагом саму человеческую природу.