
Доза ветров
5 постов

5 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов
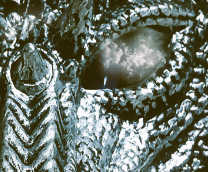
15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов

15 постов
Некто сановный и важный, привычный к исполнению его распоряжений, внезапно для самого себя кричал в гулком коридоре... В необъятный сводчатый потолок улетал кованый голос, надломленный страхом:
- Куда же здесь войти? Я теряю терпение!
Последние звуки долго бились об пустоту.
В полной тишине голос, от отчаяния и глупости своего положения, занялся торгом:
- У меня есть именное, слышите, и-мен-но-е приглашение! Что за сюжетец для басни здесь происходит? Это насмешка, кляуза или чей-то подлый розыгрыш?!
Быстрый шорох платья, умножаемый эхом до побега мышей из завалившегося подпола, утверждал, что голос мечется в поисках выхода. Однако же та ниша, через каковую он попал в коридор, была им или не обнаружена, или уже заперта.
Вдруг - трепет скрытой портьеры на постукивающих кольцах, быстро сдвигаемой.
- Прошу пройти сюда и проследовать до дверей, - произнесли спокойно и бесцветно, но весьма основательно.
- Я не понимаю этих игр! - Голос взорвался яростью, раскалился в жаровне гнева. - Знаете ли вы, кто я и почему я здесь?
- Эти сведения известны. Они не представляют ценности. Вы не прошли испытания, - ответили бесцветно, как прежде, но ещё более уверенно.
- Какого? Позвольте.. Коридора??
- Опыта познания на пути к истине.
Платье зло рассмеялось и толкнуло того, кто оставался спокоен. Странно было ударять в плоть - и не чувствовать её под материями.
- Вы, фигура, извольте объясниться!
Фигура оставалась холодна:
- Хорошо-с. Вы сами просили об устройстве женитьбы на княжне Листопадской. Не прошло года, как вы живёте с женой раздельно. По вашему настоянию.
Голос плеснул кипятком:
- Я не могу видеть этой женщины! Слышать её - испытание, слёзы пополам с сахаром.. У неё какое-то повреждение в рассудке, такую глупость допустимо списать лишь на родовую болезнь. Но не могу же я пустить к ней знахарей, что скажут-с папенька? Да я даже не желаю её! Я не хочу обладания против своего естества. Меня стошнит прямо на супружеском ложе.
Фигура изменила своей бесстрастности, заговорив едко и сурово:
- Вы бредили амбицией - она была удовлетворена. Теперь вы бредите эгоизмом - он также получит ответ! Вашей задачей являлось спокойное проживание в браке с избранной вами женщиной! Вместо того вы ведёте себя, как гусар во хмелю. Распутствуя на деньги жены.. А ведь вас, милостивый государь, не лишают чина и звания только из пиетета к князю. Но отсюда вы будете удалены. Немедля подите вон!! Вы глупы и жалки. Княжна будет устроена впредь. - Фигура словно не хотела договаривать, однако договорила. - После приличествующего вдовьего траура.
Голос бросился на портьеру всем телом, хватая руками складки ткани.
- Мерзкие сводники! У вас тут что, тайное общество свах?! Так научите свою протеже хотя бы молчать!!! И прятаться так, чтобы я её не находил. Я прикажу доставить надлежащих портьер, с которыми она сольётся, как моль с шубой!
Внезапно его ретиво ухватили сзади и затащили в узкий тёмный проём. Где свалили и поволокли вниз, для начала по лестнице и затем по сырой галерее, устланной шелковистым мхом, пахнущим забытьём и стародавним лесом в имении разорённого кутежами отца.
Он ругался, боролся и выворачивался. Но четвёрка, что его сразу держала и несла, была крепка. Галерея же, казалось, не имела конца..
И тут встали под самым светильником, нещадно тянувшим маслом. Прижали тело к стене, к деревянным панелям. Съёжились и сами молодцы, в чёрных просторных одеждах и вшитых в вороты "сплошных" колпаках, с немигающими скудными глазами.
Мимо проследовали пятеро в белых рубахах, с лицами белее мокрого снега - и с рывками верёвок на шее. Задавленное тело чуть не вскочило, будто ужаленное, да молодцы навалились как следует.. Бывший важный голос узнал первого висельника, служил с ним в юные годы, попадал в лихие переплёты... Жаль, после разойтись пришлось, отказать от дома..
- Так вы действительно те самые? Вы существуете? - прошептал он изумлённо своим конвоирам.
Те молчали.
Под скорое движение дальше он понял, что висельники впереди куда-то пропали. Но здесь сам был поставлен на ноги и отправлен ударом прямо.
Сделав невольный шаг, голос рухнул с галереи. Уж молча, без ропота. Голова его в падении будто отвалилась. Ложась на торчавшую позади, из черепного основания, рукоять клинка из слоновьей кости - вещь дивной туземной работы.
Ненадёжная опора для откинутой головы, вопреки разуму, не мешает ему возвращаться обратно всякий раз после падения. И бежать за цепочкой несчастных странников в белых рубах, горланя вольно, без прежнего вальяжа:
- Кондраша, а помнишь, как весело нам жилось? Да разве ты не узнал меня, брат? Обернись же, Кондратий Фёдорыч!***
Никогда не догоняя их.
"Никогда", конечно, вздор, эфир, летучий порошок. Понятие без доказательств.. Догнать же отчего-то хотелось так, что падать стало совсем не страшно.
Испытание продолжалось.
*** Ремарка от писаки для господъ читателей. Упоминание здесь декабристов (в частности, Кондратия Рылеева), казнённых 25 (13-го) июля 1826 года, следует считать условно-художественным намёком на все события в рассказе, включая популяризацию среди элит членства в разных тайных организациях (в т.ч. и масонского толка).
Он украдкой, под столом, обмахнул веером вспотевшее лицо. Цепко оглядел ряды штиблетов, выделив пару бархатистых и пару лаковых.. И возвысился над столом во всей своей масти, похожий на короля червей. Вытирая хрустящей салфеткой якобы обронённую вилку, настраивался, как церковный орган. Туманя взор, внутренне беря ноту.. Пора говорить речь.
— Я не честолюбив, — громко и красиво сказал поэт, тряхнув гривой с серебристой прядью. Банкетный зал взорвался хохотом, криками "пошути ещё, умоляем!" и овациями.
— Я также не самолюбив, — утвердил поэт, выпрямляя прядь и оставаясь элегантным, как балет с канделябрами в мюзикле. — Я понимаю, что в искусстве всем хватит места. Однако оно у каждого своё! И моё — быть нужным, как свет в оконце в тёмной избе.
Столовавшиеся окончательно предпочли рюмки и, кажется, по одному умирали со смеху.
— Я собрал вас, коллеги по цеху, — продолжал оратор, оберегая прядь от опасной близости с высоким неудобным фужером, представлявшим сверху корону-синусоиду, — потому что мы из разных артелей. Как те, кто валит лес и те, кто его плавит.. Правит.. Сплавляет! Вы прозаики, вы не знаете, каково это: выбрать тонкую нежную берёзку.. И...
Заканчивает фразу с приготовленным легчайшим полувзмахом руками-крыльями, на выдохе после паузы, триумфально:
- И принести её в жертву!
Она украдкой, под столом, обмахнула веером заплаканное лицо. Горько оглядела ряды туфелек, поджав ноги. И выпрямилась над столом во всей своей безликости, давно не похожая на даму треф. Теребя действительно соскочившее с пальца кольцо, изобразила внимание, как музыкант, чьи литавры звучат один раз за весь концерт. Напрягая взор, внутренне храня равнодушие.. Надо выдавить здравицу.
- А супружнице моей мы слова не дадим! Не дадим, а-ха-ха!! Потому что женщины по трезвости такое разведут - у общества в хорошем настроении уши завянут! Лучше вот звёздочку нашу новую литературную послушаем! Выходите сюда, талантище всея Земли Русской, спуститесь с небосклонов-то вольных гонорарных к нам, савраскам грешным, редакторами понукаемым... Ну-ну, не конфузьтесь, кто ж в таких штиблетах конфузится?!
Он украдкой, под столом, хлестнул её веером в закрытом футляре. Кисло оглядел свиток ресторанного счёта, выделив пару столбцов с икрой и шампанским... И встал над столом, не расправляя уже ни спутанную прядь, ни брезгливую гримасу:
- Ты груши сосчитала или нет? Разве столько было подано?
- Я не знаю.
Он напрямую, над столом, бьёт её по голове веером в именном литейном футляре. Она привскакивает от позора и ужаса всей сцены, получая его инициалы на левую щёку как наградные рубцы. И перепуганно тычет в его шею своим раскрытым веером, теряя опахало, насаженное на тончайшие стальные спицы...
Ах, дрянная пряжка на старых туфлях! Так и есть - отвалилась.
Оба они недалёкие. Далеко не смотрят. Она, безалаберная и неорганизованная, заново под стол полезла. Он, собранный и ответственный, зачем-то по верхам елозит. Как будто на этих полках можно что-то потерять. Или найти, если с другой стороны посмотреть.. Ладно уж, хоть пыль оботрёт.
Нет, оба непутёвые. Но она, конечно, нечто! Шторку десять раз поправит, чтобы свет через неё красиво проходил, а окна вымыть не может. Какое солнце в этом трауре, пёс его знает, это ж очки с дырочками по чёрной плёнке!
А за ним помыть не заржавеет, но за собой стакана так, как ей надо, не поставит.
Вот и ходят друг за другом: он брякает чистые вещи где ни попадя - она расставляет. Вроде и молодцы, и заняты целый день.
О, вылезает, сейчас головой шмякнется...
- Родной, но где же всё-таки конфеты? Ой!!!
- Ударилась? Осторожнее... Куда ты положила, вспомни! За хлебницей может быть?
Собака посмотрела на Домового, громко зевнула и безнадёжно повела лапой.
Домовой, как истинный Хозяин помещения, погрозил ей чем-то из своих туманных контуров. Но ясно, что кулаком...
- Зайдёшь мне ночью в кухню, я тебя так привечу! Вспомнишь тогда, где мои конфеты!
- От нехристь, - про себя сказала Собака, - угрожает ещё.. А не надо разбрасывать, коли твоё! Кто успел - тот и съел, закон такой не отменяли, вообще-то.
Но вслух выступать не стала. Мало ли, сущность древняя, ещё чихун нашлёт либо икоту.
И так от конфет этих икается, быстро есть пришлось. От него ведь не спрячешь.
Надо бы своих болезных с кухни увести, пока сами целы и утварь не перебили. Иначе он будет до ночи всё оттирать, а она потом переставлять до утра. А Хозяина такая активность раздражает.
Опять ботинок грызть придётся... Какой бы выбрать? Лучше его, он побольше, потяжелей.
Ох, и шуму будет!
- Начальство, присоединитесь?
- Нет уж, сытые вперёд! Когда поумнеешь, зови, покалякаем. Развлечём наших дармоедов.
- Вы бы на них не очень серчали..
- Да я и так не очень. Жила б ты здесь, если б я серчал, как же!!
И снова из дымки очертания какие-то. Да ясно, что кулак! Сатрап необразованный.
Вот я дедушку приметила на детской площадке у библиотеки. (Где шкаф для книжек стоит.) Сам в очках чёрных дырчатых, с палочкой, а книжки пальцем читал! Не знал, что я под скамейкой слушаю.
Надо бы этому тёмному рассказать, чего пишут, что печатают. Ведь путь из сатрапов в благодетели не такой долгий, если по нему идти.
- Я все твои мысли слышу, дурочка ты с переулочка! Стучи ботинком-то, мамзель фу-фу, а то они уже за плиту сунулись! Им туда нельзя, обоих родимчик хватит. Кладка там у меня.. Хорон тайный.
Голоса из кухни взаправду стали громче.
- Да пёс с ними, с конфетами!! Других купи или сушек, вон, положи!
- Ну какие сушки?! Пора угостить в новом году, а то обидится Сам, проучит... Подожди, что ты такое сказал? Пёс с ними?!
Оба сразу:
- Белка!!! Белка, иди сюда! Где конфеты? Или хотя бы фантики...
Собака со всей мочи ударила ботинком об пол.
Домовой дунул, плюнул, щёлкнул с присвистом, вздыбив собаке холку. И ликующе хохотал до полного растворения в коридорном зеркале. Которое вспомнило молодость, мельхиоровую раму, трепетный будуар и зарделось, окончательно помутнев в этом неромантичном столетии.
Крещенскую воду мы звали "серебряной". Заливали её в серебряный чан. Сразу, как приносили с источника в камне. И тут же к чану выстраивалась очередь. Большая вилюшка, если удавалось провести праздники всем домом.
Раньше, когда влажность здесь была выше, источник сам набирал глубокое незамерзающее озерцо. Потом становилось всё суше и озерцо уже питало землю, уходя в неё без остатка. Теперь есть только камень, гладко разведённый пополам, с бьющим ключом. Кладка старого кирпича вокруг камня почти разрушилась, но иконку и письмена о "святости сих вод" пока держит. Состарился и батюшка из ближайшей церкви, приходящий к ключу по великим праздникам, но тоже держится неплохо.
Он знает, зачем мы берём воду. И не препятствует - так повелось. Однако мы уважаем его и соблюдаем границы: не появляемся у источника до полуночи. Идём после, без фонарей и без дневных репетиций подъёма, по своей скрытой тропе, пробитой от заднего крыльца дома... Всё равно тропа каждый раз другая, незнакомая. Но без риска сломать себе шею откровений не жди, а нам нужны только откровения - меньшим нас не укротить и не утешить.
Давним крещенским бдением моя сестра Лера сказала, что как-то захотела выяснить, откуда взялся источник, когда пересохло его озерцо, кто и что видел в этой воде. (Мы все, конечно, напряглись.) А после, говорит она, раздумала. "Бог даёт - я принимаю с благодарностью!" - счастливо добавила Лера. Замолчала и продолжила свой "вечер при свечах", улыбаясь безо всякого притворства. Самой доброй и открытой улыбкой в мире.
Я никогда не пытался вызнать ничего лишнего. И думать о серебряной воде особо не думал. Заглядывал, прежде чем её выпить, в свою кружку, налитую из общего чана, но ахал лишь для приличия. Просто всегда видел там, за водой, одно и то же. Дрожащее пламя свечки, отражённое, вероятно, от Лериных канделябров.
Много зим я не бывал дома на праздниках. Но в эту приехал и застрял - так завалило дороги и всё вокруг. В бесконечном полутёмном сугробе к далёкой точке с источником приближался огонёк. Из чего мы поняли, что одряхлевший священник поднимается к кургану с горящей лампадкой.
Отец пошёл за водой сам. Донёс ведёрко, поставил в горнице и замер, согнувшись. Не мог ни отойти, ни отодвинуть ведёрко от себя, боясь опрокинуть. Пальцы на руке не разгибались, а до нас не доходило, в чём дело. Настолько странен и пугающе безмолвен был отец, весь покрытый ледяной коростой. Словно чужак в своём доме...
Вилюшка к чану не выросла, просто смещались по порядку, по старшинству. Я получался крайним, это ещё терпимо! А вот до меня теперь стояло плотное пустое место, которое я ощутил холодным и неживым. Душась слезами, я уронил свою кружку со светлым донышком, покатившуюся к печке. И не бросился за ней, нет.. Я опустил всё кипящее болью лицо в серебряный чан.
Там, за мелкой студёной волной, желтели огоньки. Сливками на молоке, образуя жирные загогулинки. Под ними сидела девушка с сиятельными звёздочками глаз. Она умиротворённо шила и мягко улыбалась под своё занятие.
Это чудо с моей сестрой Лерой случалось раз в году. Больше всего на свете она любила и умела шить. Рано ослепнув, шить она продолжила, только никак не могла продеть нитку в игольное ушко. Помогать себе не позволяла: тогда, мол, всё выйдет насмарку! Но как-то раз, на двенадцатом году, Лера увидела в серебряной воде Иглу-золотое ушко, предмет из выдуманной ею сказки. После чего села у свечки, продела нитку и успела окончить вещь до рассвета.
Кто бы мог подумать, что она в одиночку попробует пройти к источнику взрослой девушкой, когда надзор за ней давно ослаб? Кто бы мог представить, что нелепый семейный обряд (почитающий, вплоть до имён, забытых предков: то ли раскольников, то ли язычников, бог весть) будто и родился для одной незрячей наследницы? Верящей в чистую суть мироздания, омытого серебряными "окиянами" прозрения... Порой, как штормит, беспощадного. Иногда же, к жаждущим, милосердного.
Я опрокинул чан и зашумел в её уголок, не вставая с коленок от стола: "Лера! Лера!!". (Когда её провожали туда, на другую сторону от дома и пониже кургана с ключом, я не успел прибыть вовремя. Так и не отгоревал по ней, не откричал.) Отец плакал навзрыд, смущаясь и растекаясь на глазах сосульками с не снятой с себя овчины. Не уследил он тогда за ней, а видел, что пошла куда-то... И только мать, преемница какой-то сложной, как узел, веры своих пращуров, просила тихонько и скорбно: "Не убивайся, сыночек! Грех тут роптать. Она была счастливица, звёздочка наша, Создателем поцелованная".
А пролитая вода всё искристее серебрилась под коптящими свечами.
Женщина всегда мечтает о деньгах, которые можно пустить по ветру. Или выбросить на ветер - тут уж как хотите, так и говорите. Главного не изменишь, а это деньги и пустота в обоих случаях.
И вот одна такая мечтательница нашла кошелёк на разбитом перекрёстке. Кошелёк был столь же потрёпанный жизнью, как и дороги, сходившиеся здесь. Завязки болтались, бисер с простецкого узора осыпался, в подкладке дыра. Но женщина всё равно проверила, вдруг за подкладку хоть рублик на удачу завалился.
Просунула пальцы - а они насквозь прошли. И провалились во что-то тёплое, мягкое, податливое... Разве пух какой? Женщина попробовала схватить непонятное. Ого, прищемила вроде ноготками и давай тянуть! Вытянула серый пуховый платок. Большой, только ветхий и молью кое-где проеденный.
Отбросила платок подальше в сугроб, а кошелёк не выкинула. Так постояла с минутку и снова внутрь полезла. На этот раз пальцы сразу за ветку какую-то уцепились. И вынула женщина бадик из дерева самодельный, как раз под свой рост, если согнуться.
Отшвырнула бадик в ярости, словно копьё метнула, намного дальше платка закинув.. Вцепилась кошкой в кошелёк, глаза запылали, лицо раскраснелось! "Денег хочу, слышишь меня?!" - кричала в пустой драный кошелёк на старой дороге молодая женщина. Рванула покрепче, кошелёк пополам, а вместо него появилась сумка холщовая на тесёмке.
Женщина скорей нырь в сумку! Да что это в ней? Хлебные корки, до сини мёрзлая луковица, одна рукавица да живая водица...
Много разных людей можно встретить на тихом перекрёстке. В любой год, в любой час. Но особенно оттепелью, когда проезжие не понимают, что дороги здесь в низине сходятся и заваливает их капитально! И не короче путь выйдет - только дольше и страшней.
А в прежние времена ходили тут зимой всегда пешком, на лошадях по Стеклянному озеру объезжали. Теперь же суток не проходит, чтобы машина в глубоких вязких снегах не забуксовала.
И стоишь, как дурак, стоишь около своей ласточки! Пока связь найдёшь, пока вызвонишь, пока помощи дождёшься, такого насмотришься.. Откуда-то из сугробов вылезает мне навстречу бабка с костылём и молча кошелёк раскрывает. Что поделаешь, сам встрял в неприятности, карму нужно почистить. Мелочи не было, бросил ей купюру. Сотка мимо провалилась, кошель-то дырявый. Я наклоняться за деньгами, а их сдунуло куда-то. Видно, ветер поднялся, позёмка и закрутила. Настоящий буран по ногам до мордас взлетел! И влажно, но пыль снежная сухая, колкая, в лицо как током лупит. Бабка взвыла чего-то и сама за деньгами вдогонку бросилась, а я в машину полез греться.
Что ж, может, и околдовал кто перекрёсток. Может, просто место такое - слышит тебя и исполняет, что услышит, по-своему. Женщине, обвязанной серым платком, секрет этот тоже неизвестен. Понятно ей только: за своим желанием надо идти.
Она и идёт, как многие шли до неё и ещё обязательно пойдут. У неё есть твёрдая клюка для опоры, торба с жалкими припасами, надежда на подаяние из воздуха и многие километры пути по кругу. Где-то близко, по ветру, кружатся её деньги.
Иногда ей, как встарь, вдруг отвечают: "Бог подаст". Проходят мимо и ничего не кладут в кошелёк. Старуха с клюкой таких не любит. Про Бога ей вовсе ничего не ведомо - всё создано людьми. Всё можно купить и пустить на ветер.
Слышите, завывает на пустой холодной дороге: "Денег хочу! Денег!!!"? Это не Матушка-вьюга крутит, а Мачеха-корысть открыла свой бездонный кошель. И просвистывает с ветерком упавшее в дыру. Зашить бы её, да то ли ниток таких теперь не делают, то ли чинить разучились.. Или пуст наш разговор, пока не захотим того, чего не купишь.
С уже купленным согласием проводника, заверенным его дивной растушёванной подписью, я осматривал этот глупый продажный квартал. А он, как опытный альфонс, осматривал меня, требуя монету на каждом шагу. Возьми за один сребреник ряженого в саван глашатая, он будет идти впереди и расчищать путь.. Дай вдвое нищему, о чём-то воющему в перьях и с дудкой в виде павлина. Дай втридорога детям в масках духов-лжецов за леденец с настоящей мухой внутри.
Порядочно устав от пустозвонов, барышников и воришек, я толкнулся в дверь винного погребка. Убедился, словно уразумев и всех женщин сразу, что чем дороже и красивее кувшин - тем дешевле и кислее вино в нём. Когда мне чуть было не всучили и кувшин, я остановил страстные излияния хозяйки лишь тем, что разбил прекрасное изделие вдрызг. Куски с нежной глазурью под лемонграсс с хрустом топтались её стройными ножками под сбитой юбкой-колоколом, когда она побежала за мной, искря зелёными глазами и угрожая медным подсвечником. (Тоже уже прозеленевшим, это составило утешительную гармонию в палитре.)
Однако воды в вине было явно с избытком. От бега, хохота и волнения она испарилась первой. И теперь мне просто хотелось пить, унять как жажду, так и сбить волглый привкус, будто выдуваемый пузырём из моего рта. Я снова толкнулся в двери, даже не обратив внимания, что декорации сменились. Костюмированные бездельники исчезли, а лавки помрачнели, избавившись от зазывал и от вывесок. (Не было и матерчатых лент на колышках между булыжниками мостовой - с рекламами услуг для отдыхающих.) Да все магазинчики тут даже погрязнели, будто кончились в продажном квартале фанфароны, выдающие свой утильный товар за приличную вещь.
Обтирая руки платком после противной и липкой дверной ручки, я рассмотрел комнатку, в какую попал. Собственно, рассматривать здесь было нечего - на единственной стене без драпировки под шёлк висел гонг. Старинный, медный, однако начищенный, словно солнышко. Я позабыл о жажде и ударил в него с одним горячим желанием: если здесь есть тот, кто способен отдраить гонг, не мог бы он вытереть и ручку... Но взявшийся извне юнец, выскочивший бесёнком из стены, в неких портках и феске без кисточки, не был охоч до разговоров. Он молча протянул мне ладонь. Я со вздохом дал сколько-то - и вдруг повёл носом... Вокруг сладостно запахло моим любимым духом непристойных приключений. Мне почудилось, что я понял, где оказался.
Юнец рыбкой нырнул за драпировку, тут же отдёрнув её для меня и исчезнув. Я спустился на несколько ступеней и увидел магазинчик с грубыми деревянными полками и с таким товаром, который нельзя было соотнести с чем-то известным или знакомым. К тому же - прямо посреди комнаты - из земли росло настоящее карликовое дерево, всё в колючках. На них, по чьей-то безумной прихоти, были насажены красные бумажные цветы... Но тихое местечко оказалось обитаемым.
Под деревом стояла совсем молоденькая девушка, темнее тюрчанки и милее степной азиатки, зато и в алом тюрбане (сливавшемся с крупными цветками, украшавшими шипы пустынной недоросли) на клубке чёрных косиц, закрученных высоко, и в жемчужно-прозрачных шальварах сразу. Я догадался, что она лишь изображает кого-то, как фрейлина порой королеву, для забредающих сюда проходимцев. Впрочем, это не имело значения, ведь она была не просто привлекательна.. Её по-своему скомороший наряд, дополненный оранжевыми губами и клеопатровыми стрелами колера половой мастики, не имел верха! Только светло-коралловый гарнитур затейливого плетения спускался с тонкой шейки и чуть касался вольного пояса шальвар, когда она наклоняла уставшую от веса причёски головку почтительно и смиренно.
Я взял с полки не знаю что, первый попавшийся предмет. Спросил на странной смеси языков, ходившей по здешним улицам, не название вещи или цену, а как это можно использовать. Она тихим грудным голосом отвечала: за награду ей разрешается показать. Я достал побольше денег и положил перед ней.. Велико же вышло моё разочарование! Девушка лишь надела на себя пару спиральных браслетов, растягивающихся от запястья до локтя, и скрестила гибкие руки, чтобы сомкнуть звенья. Вероятно, жест, как и предмет, олицетворяли покорность, но такое меня не трогает.
Зато я быстро поумнел и принялся выбирать. Нашёл длинную перевязь, схожую с полотнами цирковых гимнастов, на надёжной застёжке. Выложил почти всё из имевшейся при себе наличности - и легонько примотал свою рабыню к дереву под её щедрую к богатому клиенту улыбку. Затем переспросил глумливо, всё ли разрешается примерять. Она подтвердила, но уже беспокойнее, тараторя про обязательность награды.. Я взял отличный кожаный кляп и отстегнул свои часы с каменьями, преподнеся их к её ногам. После, с редчайшим наслаждением, затянул и кляп, и концы полотна, только теперь защелкнув скобу.
Сняв пустой золотой медальон вместе с крестом, я показал продавщице последнюю выбранную вещицу. Она жутко и страждуще застонала, побледнев, как восковая свечка, кладя оттенок лишь ранами от шипов. Даже оранж с её губ над кляпом сполз до рассеянного света гелиотропа. Жаркая бабочка обращалась назад, в мотылька, летящего на скользнувший по хладной каменной плите отблеск луны.
Ковбойское лассо из этого - воистину! - магазинчика редкостей стряхнуло с деревца все цветы и обломало половину колючек. Я замер ненадолго в своём представлении, где импресарио нежданно велел марионеткам сыграть трагедию. А потом очнулся, привёл в порядок костюм, схватил только свои часы и бросился вон.
В первом же маскерадном павильоне взял маску не глядя, расплатившись банковским билетом на имя своего завтрашнего сопровождающего. Нацепив её, прошёл по галерее с кутилами, прибившись к каким-то вопиюще шальным нахалам, и фланировал с ними после по набережной, имея успех и сыпля отчего-то солёными моряцкими остротами.
Когда в ожидании фейерверков погасили огни, я оказался рядом с благопристойным семейством, смотревшим на воду, где в лодках проплывали хмельные знатоки публичных эффектов, постоянно топящие друг друга. Я занялся тем же самым осмотром, подыгрывая озорной дочке семейства, пухленькой и свежей, шутками и комплиментами. Как вдруг девушка повернулась ко мне и страшно вскрикнула, напугав родных!
Сбежав под гул зрителей и треск шутих, я снял маску. На меня по-отечески взирал, ухмыляясь ненасытным вурдалаком, мэтр Синяя Борода. Он был отвратителен своими буграми щёк и далеко высунутым носом, годящимся для Сирано или Арлекина. Да к тому же пропитан фосфорным составом и горел синим пламенем. Действительно, выглядит весьма пугающе. Не то что под маской!
Всё правда, с обеих сторон. Вот только жениться снова я пока не собирался.
В том месте парка, где был мой первый тир, горела цветными лампочками открытая эстрадная площадка. Арена колизея, похожая под небогатыми фонариками на цирковое шапито с метко срезанным верхом. (Такое я тоже видел при одном вымирающем балагане - и в нём тоже стоял тир. Только почти в лесу.. Затерялся в нетронутом можжевельнике, словно кадр, отхваченный закусывающими ножницами с плёнки старого ужастика.) А ещё издали площадка напоминала личное - винтажную круглую сахарницу "не для гостей", скрывающую страшную семейную тайну: куда делась крышка?
Но я просто зашёл внутрь, встал на середину своего колизея. И ощутил круглое прошлое, впуская в себя бесконечный ноябрь.
Сперва домашний, но стылый и серый. Клочковатый липкий туман - паутина в редко убираемой квартире. Прелые листья - давно заплесневевший ковёр. Сырость - от близкой на первом этаже земли и плохих батарей.
Потом уличный, дождливый и полутёмный. Я зажмурился, убрав из поля зрения свежий помост эстрады. И сразу увидел отца в зелёном плаще, будто из линейки ОЗК, поправляющего стенды-мишени. Он, как и старый тир, работал в любую погоду.
До нового тира я изрядно отмахал пешком. Маленькое помещение, зато отдельным домиком: мимо не пройдёшь. Скромный выбор оружия, звонкий лязг металла. Все мишени - фигурные жестянки, держащиеся за свою стеночку.
Я сбиваю кувшинку, чётко штампованную с розового лотоса, под Царевной-лягушкой. Запускаю лошадок в карусельке и ловлю на мушку, словно взрослый, пятно со штырьком на зонтике пляжной красотки. Попадаю, вынудив скромницу показать мне змеиный хвостик соблазнительного рта. И свой совершенно невинный купальный костюм.
Слащавый красавчик за кассой, довольный бойкой торговлей, отрывается от меня на горячую улыбку. Пока он залип на вошедшую со двора женщину, я дуплетом снимаю картуз с головы студента и порчу муфту его подружке, которую он трепетно держит под локоток. Наклоняясь к спутнице, чтобы полюбоваться её смехом... Эта парочка на коньках с амурной открытки - мой возможный выигрыш. Это же приз, а не цель!
Кассиру кажется, что я дважды лупанул в молоко. Он хихикает, скрывая смешки гениально придуманным кашлем. Но женщина, вошедшая со двора, всё видит и понимает. Она выгибается ко мне вроде удивлённо, однако с давно привычным искушающим кривляньем. Широко расставив лживые глаза, раздвинув совсем молодую переносицу. ("Любому зверю стреляй между глаз!") Капюшон с готовностью падает с охапки пепельных волос, перекрывая сложную мишень с балеринкой. Музыкальную шкатулку, играющую "Лебединое озеро" с царапаньем и писком, как после насланной на весь оркестр порчи.
- Эу, неизвестный стрелок, это мой тир. - Она объёмно всматривалась в меня, как, видно, во многих клиентов в те дни. Искала признаки безумия, дурмана, истерики и заискивала одновременно, хитря и извиваясь перед очень вероятной угрозой.
- Я знаю. - Нервничая под её сканерами, раскладывающими меня на клеточки в сетке зрительного контакта, я хотел звучать не спокойным, а отстранённым. - Здравствуй, мама.
Одним детским моим ноябрём, помнится, лило без передыха. Тогда все дожди назывались "кислотными" и взрослые ужасно нервничали по такому поводу. С меня даже сняли обязанность следить за тазиком в кухне. (В него набегала вода с самого кривого и низкого в квартире окна.) И однажды я увидел, как гладкая серая крыса пьёт из этого тазика. Я объяснил ей, что эта вода вредная, лучше, вон, из-под крана, вечно подтекающего. Тебе же не надо много, ты же не верблюд!
Крыса посмотрела на меня с равнодушным интересом, красиво отведя головку. Я сделал шаг, но она сразу цыкнула, сохраняя грацию лебедя с угрожающими мне резцами. И продолжила пить.
Что я мог сказать той, кто не узнал меня? Доброй ночи и удачи, детка? (Причём ровным голосом сочного тембра, украденного из озвучки Джеймса Бонда..) Она же уже решила, что знает достаточно и беспокоиться не о чем. Ведь её внимания я всё равно не стою.
Я прибил её тяжёлой гранёной сахарницей удачного цвета гранатового сока. Раскололась только крышка...
Сейчас тоже надеюсь на минимальный ущерб.
И на ливень, рикошетящий в продырявленные мной стёкла, кучкующийся в ржавые озерца - не для поплывших лотосов.
Аве тебе, Юпитер Громовержец!
А дождь-то, реально, всё такой же кислотный.
Апломб матери мужа Татьяны Николаевны доходил до размеров невероятного! Татьяна Николаевна, женщина высокая, прямая и с открытым светлым лицом, будто сгибалась, пряталась под её чёрным взбалмошным взглядом. Судорожно ища хоть одну белую клавишу на этом рояле... Однако тут недолго и сломаться - да без толку, ибо предугадать настроение мадам Войтецкой было решительно невозможно! В голове вдовы действительного статского советника, как в чайнике-люкс из товаров лавочника Зюса, каждую минуту вскипали новые мысли. И любая из них угрожала, словно бы вдруг разорвало перелитый чайник, ошпарить до мяса.
Татьяна Николаевна откровенно боялась свекрови. О чём последняя имела самые твёрдые сведения, наслаждаясь тем, что в её присутствии жена сына возвращалась в ту пустоту, из которой когда-то появилась. А самое лучшее было - застать невестку врасплох, за музицированием! Тихо зайти в гостиную и встать на пороге, просто наблюдая, как бесталанно обрывается вдруг музыка. Как медленно задыхается и мертвеет та длинная холодная рыба! Но всё трепыхается сдерживаясь, чтобы не обернуться..
Этого свекрови вполне хватало, она получала какое-то священное благоговение от одного лишь "выражения спины" Татьяны Николаевны и удалялась в ладу с собой и миром до следующего раунда. С деланным наполеоновским безразличием под старомодной шляпой в три угла, да с пурпурными пятнами на щеках от невольных красок, брошенных триумфом самолюбования. На мгновенье расцветивших изжелта-бледный портрет того типа деспотической гордячки, каковой называют "отжившим" лишь слепые котята да литературные юнцы...
Но Войтецкая была, воистину, уже стара. Житейская подвижность покидала её постепенно, пересыхая вместе с источниками травли. После кончины мужа она надела более не требующий светских переодеваний траур и долго держалась просто великолепно! По сложённой привычке "ела поедом, чёртова баба!" бывших сослуживцев супруга. Развлекалась, принимая у себя сочувствующих визитёров, давая аудиенции - и не давая ни копейки! - попрошайкам, лизоблюдам, авантюристам, святошам и торгашам. Отлично при этом управляя имением и никого не подпуская ни к делам, ни к средствам.
Нежданная смерть сына оказалась куда более болезненным испытанием, подкосившим её по-настоящему. Случился тот удар судьбы, к которому нельзя подготовиться. После такого Войтецкая чересчур скоро, как всякий везунчик, поражённый коварством Фортуны, осела, располнела и будто бы "приземлилась", прекратив принимать и оставив без своего деятельного призора ведомство мужа. А вся её живость перетекла из тела в бесконечную игру ума, в мелкий пузырчатый стеклярус, с гнилой нитки просыпанный на рукоделье и никак не желающий нанизываться на иглу.
(Вот и ещё один образ, тоже навеянный Татьяной Николаевной, возник у свекрови в нагрузку к ненавистному роялю. Только невестке, любившей всякие причуды - лишь бы ничего не делать, такая пакость подходит. Но ей?!)
Однако мучительный вопрос "как так вышло?" не шёл из головы Войтецкой и точно принуждал её склониться ещё ниже, теряя уже не в росте, но в самой энергии жизни. В глухом (и дважды, увы, расшитом по круглой, как колоб, фигуре) трауре госпожа Войтецкая медленно перекатывалась по собственным владеньям тенью себя прежней.
- Гроза-то наша, - шептались в людской, в саду и на кухне не без поразительного для всё слышащей Татьяны Николаевны сочувствия - молонья-то наша небесная, совсем сдала! Еле ноги таскает! А вчерась того офицерика, кто уж вторую неделю ходит, приказала взашей выгнать! И самолично смотрела, как Мирон Иваныч его с лестницы спускают.. Опосля вроде улыбнулась. А когда ухарь-то этот вскочил, без фуражки и красный, аки рачина в гольном кипятке, да кулачком затряс, рассмеялась в голос даже!
Людская содрогнулась от хохота. "Слухмённая", как звала её прислуга, презирая никчёмную невестку по подобию барыни, Татьяна Николаевна поморщилась и снова пересмотрела свои вещи. Самое необходимое уложено ловко, легко и почти незаметно. Никаких громоздких неподъёмных чемоданов: добытая в лавке Зюса на сворованные у свекрови деньги сумка "комфорт", представляющая собой кожаный заплечный мешок на ремнях, и видавший виды ручной антик-саквояж, ещё мамин... Согласно депеше, обронённой вчера в саду оскорблённым офицером, их имение "в военном порядке" изымут и займут в начале следующей недели.
На частном прогулочном пароходце, схваченном в порту живой силой, было битком. От чего "Марьяна" регулярно давал крен на разные бока и черпал-заливался со всех сторон морской водой. Но палуба мокла и вздувалась не только от того. Слёзы бежавших в никуда основательно добавляли влаги, а купец Оладьев - бывший владелец судна, горе семьи и большой дуралей, покровитель публичного дома Марьяны - украшал обстановку громкими звуками. Особо мокрыми местами он переходил с низких басов пьяного рёва на душу выворачивающий вой.
В этой музыке плавания всё равно куда - лишь бы отсюда - Татьяна Николаевна отвлекалась, теряла бдительность, пьянела, как непристойник Оладьев.. И не слышала свекрови вовсе!
До той поры, пока та не простучала, клацая от ветра и сырости вставной челюстью, ей в самое ухо:
- Так ты к тому ж и воровка! Я всегда это знала.. А поплавать не хочешь, рыба моя?
Татьяна Николаевна поражённо развернулась. Войтецкая смотрела невестке прямо в глаза, а заношенная треуголка на этом чёрном колобе маячила пиратским флагом и скорым страшным концом.. Ещё она была отчего-то выше Татьяниного капора, второпях надетого аж на толстый платок.
Цопкий крючок руки, облегшей перчаткою, впился в плечо Татьяны Николаевны. Но она успела, нашла складки бугристой спины в ветхом салопе, подбитом ватой. Пробежалась тоже хваткой рукой по складкам выше, к вороту и к горлу, как по клавишам с белыми бликами... Та вся как-то странно треснула, рявкнула мерзкую ругань - и вдруг скоро и жалобно взвизгнула от ледяной оплеухи моря.
Так не стало госпожи Войтецкой, с превеликим трудом вкатившейся на ящик с никому пока не интересным купеческим шампанским. Так родилась Татьяна Николаевна Стрига, с написанной судьбой распростившаяся по однажды позабытым мещанским документам.
И долго ещё, всю вторую жизнь, ей было не до роялей. Ей пело море, вечно одно и то же, вроде заклинания из давно усталых мелодий для новой Лорелеи: треск чёрной материи и проломленного ящика, грязное словцо, животный визг и совсем маленький плюх.. Однако на нарядном пароходце, где пассажиры впервые ютились стоймя друг на друге, он дошёл до ушей не только самой "слухмённой".
Просто нам всем тогда, в седьмой день Ноября, в осень от Рождества Христова тысяча девятьсот семнадцатую, было уже всё равно.
