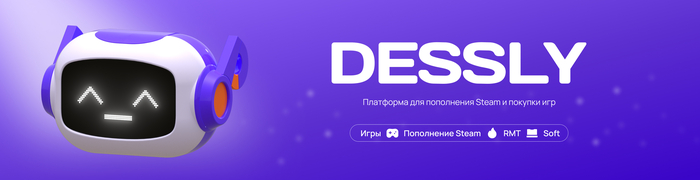Языкова не смотрела на него. Её холодный, отстранённый взгляд был устремлён куда-то поверх голов, в пустоту у дальней стены. В руках она держала стопку бумаг, и её тонкие, почти бескровные пальцы сжимали листы так крепко, что послышался хруст материи.
— Ваше последнее эссе по анализу синтаксических конструкций в «Саге о Девяти», — начала она, и каждый звук её голоса был отточен, как лезвие. — Параграф третий. Вы позволили себе… интерпретацию. Крайне вольную. Граничащую с прямым искажением канонических лингвистических структур.
Она наконец подняла на него глаза. Её взгляд был пустым, лишённым всякой теплоты, будто бы она смотрела не на живого человека, а на очередную синтаксическую ошибку.
— Параграф 4.7 Устава Школы чётко регламентирует недопустимость подобных вольностей в академических работах.
Виктор почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он попытался собраться с мыслями, сделать голос твёрдым.
— Но, Марина Никитична, я лишь предположил возможное влияние диалекта Нищура на формирование…
— Молчать! — её слово прозвучало как хлопок бича, резко и безжалостно оборвав его. В классе стало так тихо, что было слышно, как за окном пролетает птица. — Ваши предположения неуместны. Они демонстрируют вопиющее пренебрежение к установленным правилам. Я требую вашего присутствия в моём кабинете сразу после последнего урока. Для разбора этого нарушения и вынесения дисциплинарного взыскания.
Она сделала паузу, давая этим словам повиснуть в воздухе ледяной угрозой.
— Отказ, — её голос опустился до опасного, почти шёпота, но от этого он стал лишь страшнее, — будет расценён как злостное неподчинение и повлечёт немедленное отчисление. Вы поняли?
Виктор молча кивнул, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Краем глаза он увидел, как Павлин порывисто дёрнулся, пытаясь что-то шепнуть, но ледяной взгляд Языковой, скользнувший в его сторону, моментально остановил его.
Формальность, — лихорадочно подумал Виктор, отводя взгляд. — Ничего страшного. Просто формальность. Может, даже повод спросить про Ирину...
Но комок тревоги в горле не желал рассасываться.
Позже Виктор стоял у тяжёлой, массивной двери кабинета Марины Никитичны, подсознательно отмечая, что дерево потемнело от времени и казалось неестественно тёплым на ощупь. Из-под неё не пробивалось ни лучика света, ни звука. Он постучал костяшками пальцев, и звук получился глухим, приглушённым, словно поглощённым самой древесиной.
Негромкий, безжизненный голос из-за двери прозвучал почти мгновенно, будто его ждали:
— Войдите. И закройте дверь за собой.
Он нажал на холодную латунную ручку и толкнул дверь. Она отворилась беззвучно, на слишком хорошо смазанных петлях. Свет от единственной настольной лампы под зелёным абажуром был слаб и темен. Он не рассеивал мрак, а лишь выхватывал из него островки: полированную столешницу, стопку идеально ровных бумаг, бледные, почти полупрозрачные пальцы учительницы, сложенные перед собой. Всё остальное тонуло в липких, движущихся тенях, которые, казалось, жили своей собственной жизнью.
Марина Никитична сидела за столом, неподвижная, как изваяние. Её лицо наполовину скрывала тень, отбрасываемая абажуром, и только тонкие, плотно сжатые губы и острый подбородок были освещены. Прямо перед ней стояла хрустальная ваза с розами. Рядом лежал знакомый, потрёпанный блокнот Ирины «Протокол» в кожаном переплёте, абсолютно чистый лист плотной желтоватой бумаги и старое, инкрустированное потускневшим серебром перо с неестественно острым кончиком. Чуть в стороне стояла массивная стеклянная чернильница. Чернила в ней были густые, маслянистые, почти чёрные, но с кроваво-багровым отливом на свету. Они казались живыми и бездонными.
— Садитесь, Таранис, — тихо сказала она. Её голос был низким, усталым, но в нём звенела стальная нить, не допускавшая неповиновения.
Виктор с трудом заставил ноги подчиниться и опустился на стул напротив, спиной к закрытой двери. Давление в кабинете нарастало физически, сжимая виски, давя на грудь, как перед ударом молнии. Мысли текли медленно и вязко, словно те самые густые чернила. Пошевелить пальцами было невыносимо трудно.
— Вы любопытны, Виктор. Чрезмерно, — продолжила она тем же ровным, гипнотическим тоном, не меняя позы. — Как и ваша одноклассница, Ирина. Как и Зоя до неё. — Она медленно протянула руку и кончиком пера коснулась корешка блокнота, словно проверяя его реальность. — Она верила, что правила — это стена, защищающая от хаоса. Она пыталась всё запротоколировать. Даже то, что протоколировать нельзя. — Губы Языковой искривились в чём-то, отдалённо напоминающем улыбку. — Правило 7.4: «Смерть не входит в учебный план». Наивная глупость.
Апатия окутывала Виктора тяжёлым, мокрым одеялом, проникала в кости. Он пытался сконцентрироваться на дыхании, но воля утекала сквозь пальцы, как вода.
— Вы ворвались в мой кабинет. Дважды. Вы коснулись того, что не должно было быть тронуто. — Её взгляд, холодный и не мигающий, скользнул по вазе. Один из чёрных бутонов, самый крупный, едва заметно дрогнул, и с него осыпалась тёмная пыльца. — Вы ищете то, что вас погубит. Как и ваш дядя. Его любопытство тоже не знало границ.
Она плавным, почти ласковым движением толкнула к нему чистый лист и то самое перо.
— Напишите. Своей рукой. Разборчиво. Признание в нарушении параграфа 4.7 Устава. И… — она сделала крошечную, выразительную паузу, — добавьте фразу: «Я добровольно отрекаюсь от излишнего любопытства, дабы сохранить чистоту знания».
Он попытался отказаться, закричать, но парализующая тяжесть сковала горло, сдавила лёгкие. Встать было всё равно что поднять гору. Ваза с розами начала издавать едва слышный, высокий звон, и воздух стыл до костей, пробираясь под одежду.
— Пишите, Виктор, — её голос не допускал возражений, звучал как непреложная истина. — Это всего лишь дисциплинарное взыскание. Формальность. Правила существуют, чтобы их соблюдали. Это для вашего же блага. Напишите — и вы свободны. Можете идти.
С огромным, нечеловеческим усилием он протянул руку. Пальцы плохо слушались, одеревенелые. Он взял перо, обжёгся холодом. Едва он коснулся острым кончиком бумаги, как почувствовал жуткое, леденящее вытягивание — не крови, а самой жизненной силы, самой воли, — которое текло из его груди через руку, через перо, впитывалось в жаждущие чернила и ложилось на бумагу мёртвыми, уродливыми буквами. Каждое слово давалось мучительно, высасывая из него кусочек за кусочком.
В тот же миг один из чёрных бутонов в вазе резко, с тихим хрустом, распустился. Его лепестки, бывшие секунду назад сухими и сморщенными, наполнились тусклым, болезненным глянцем, стали влажными и плотными. Из глубины вазы, из воды, что была тёмной, как чернила, донёсся едва слышный, искажённый стон — знакомый, до мурашек. Голос Ирины? Или, может быть, Зои?
Виктор с ужасом, от которого кровь стыла в жилах, посмотрел на поверхность чернил. В маслянистой, непроглядной глубине что-то шевельнулось. На мгновение на поверхность всплыло искажённое, бледное, как утопленник, лицо Ирины. Её рот был открыт в безмолвном, отчаянном крике, а глаза, широко распахнутые, полные немого ужаса, смотрели прямо на него. Потом оно медленно пошло ко дну, растворившись в багровой мгле.
Языкова наблюдала за оживающей розой, не скрывая более тонкой, хищной усмешки, тронувшей уголки её безжизненных губ.
— Видите? — прошептала она, и в её шёпоте звенела странная, почти восторженная нота. — Слово имеет силу. Особенно написанное собственной рукой, собственной волей. Оно фиксирует не только мысль, но и... суть. Часть души. Ирина поняла это слишком поздно. Она так старательно записывала правила, но не понимала, что сами правила, сами формулы могут стать самой изощрённой ловушкой для того, кто им слепо доверяет.
В это время, где-то в пустом, погружённом в вечерние сумерки подвале царила неестественная тишина, нарушаемая лишь мерным потрескиванием ламп дневного света на потолке. Степан Максимович Громов, низко наклонившись, собирал в потрёпанный портфель стопки журналов и книг, тяжело вздыхая. Внезапно его спокойствие было нарушено.
Тельдаир Дивит появился словно из ниоткуда, подойдя быстро, но без малейшей суеты. Его лицо выражало вежливую, почти академическую озабоченность.
— Степан Максимович? Извините, что отрываю, — его голос был ровным, но в нём слышалась лёгкая, искусно подобранная нота беспокойства. — Вы не видели Виктора Тараниса?
Громов выпрямился, нахмурившись, и отложил в сторону толстый журнал с расписанием.
— Виктора? Нет, — учитель провёл рукой по лицу, выглядевшему усталым. — Уроки кончились, наверное, домой пошёл. А что?
Тельдаир слегка наклонил голову, будто прислушиваясь к далёкому эху, которое мог уловить только он. Его левый глаз ритмично, почти незаметно подрагивал.
— Я только что проходил мимо кабинета Марины Никитичны... — он сделал искусную паузу, имитируя лёгкую нерешительность, будто колебался, стоит ли говорить. — Мне показалось, что я услышал... странный звук. Как будто что-то тяжёлое упало. И свет в окне горел неровно, мерцал. Может, ничего... — он снова сделал паузу, чтобы следующие слова прозвучали весомее, — но учитывая последние события с пропавшими учениками... Я подумал, может, стоит проверить? Виктора же вызывали к ней после уроков.
Слова «пропавшими учениками» и «Виктора вызывали» подействовали на Громова как удар током. Его лицо мгновенно потеряло цвет, став землисто-серым. Глаза расширились от внезапного, острого ужаса.
— Кабинет Языковой?! Странный звук?! — он резко, почти швырком отбросил журналы, которые только что бережно укладывал. — Пойдем! Быстро!
Громов почти побежал по коридору, его тяжёлые ботинки гулко стучали по каменным плитам. Тельдаир легко шёл рядом, его шаги были быстрыми, точными и бесшумными, как у хищника. По пути они почти столкнулись с Гарадаевым, выходящим из соседнего кабинета с папкой в руках. Но даже прежде чем учитель обернулся, его тень у ног уже беспокойно забилась, замерцала и потянулась в сторону кабинета Языковой, как натянутая пружина, принимая угрожающие, рваные очертания.
— Григорий! — выдохнул Громов, запыхавшись. — Что-то у Языковой! Там Виктор! Тельдаир слышал звуки!
Гарадаев остановился как вкопанный. Его лицо осталось каменной маской, но глаза сузились до опасных щёлочек, в которых вспыхнул холодный огонь. Он медленно перевёл взгляд на Тельдаира.
Тот кивнул, его лицо было бесстрастным, но слова — чёткими и несущими конкретику:
— Да. И свет внутри... мерцал неестественно. Как при сильном выбросе нестабильной магии. Очень тревожный сигнал.
Гарадаев ничего не сказал. Он лишь резко, почти отрывисто кивнул, бросил папку на подоконник и устремился за Громовым, его длинный плащ взметнулся за ним. Тень рванулась вперёд первой, бесшумно скользя по стенам, извиваясь и шипя, будто опережая хозяина в стремлении достичь цели. Тельдаир последовал чуть позади, его лицо снова стало отстранённым. Левый глаз снова ритмично задёргался, а палец правой руки почти незаметно, по привычке, коснулся холодного металла Кольца Всезнания на пальце.
Группа влетела в пустой коридор, упирающийся в тяжёлую дверь кабинета Языковой. Тень Гарадаева, обычно послушная и чёткая, металась у его ног как дикий, загнанный в клетку зверь, её края рвались вперёд, бесшумно бились о массивную деревянную поверхность, оставляя на ней едва заметные царапины.
Громов, не помня себя от тревоги и нахлынувшего гнева, кулаком обрушился на дверь.
— Марина Никитична! Виктор! Откройте! Что там происходит?!
Его слова повисли в тишине, и в этот миг из-за двери раздался глухой, сухой хлопок, словно лопнул огромный стеклянный шар. За ним последовал резкий, мелодичный звон бьющегося стекла. Стена двери слегка вздулась и затрещала, будто от ударной волны. Полоска света под дверью погасла, погрузив порог в полную тьму.
— Виктор! — крикнули в унисон Громов и Гарадаев.
Учитель электричества отскочил, его руки инстинктивно вспыхнули сгустками синих, трескучих искр. Гарадаев не стал тратить время на взлом. Он сделал резкий, отрывистый жест рукой — и его тень слилась с тенью двери, превратилась в чёрные щупальца, которые с силой дёрнули ручку изнутри. Раздался оглушительный треск ломающегося металла, и дверь с силой распахнулась, ударившись о стену.
Они ворвались внутрь. Тельдаир замер в дверном проёме, его взгляд мгновенно, будто сканер, охватил картину хаоса: Виктор на коленях, клубящийся пепел, тлеющие трещины на стенах, иней на поверхностях и зияющую пустоту там, где должна была быть Языкова. Палец на его руке едва заметно шевельнулся, касаясь Кольца Всезнания — шла запись.
Кабинет был уничтожен. Виктор стоял на коленях, весь дрожа, его лицо было покрыто копотью и тонким слоем чёрного пепла. На рукаве куртки тлела ткань, а на запястье краснел свежий, страшный ожог — след его же молнии. Вокруг него лежали осколки хрустальной вазы и чёрный, тяжёлый пепел, который медленно клубился в воздухе, словно живой. По стенам медленно гасли, словно прожигая обои, чёрные трещины, напоминавшие молнии. На всех поверхностях — на столе, на книгах, на полу — лежал иней, от которого стелился холодный пар. Воздух был наполнен остаточным эхом стонов, затухающим, словно ветер в глубоких трубах. Чернильница стояла открытой, и чернила в ней казались ещё гуще и чернее. Языковой нигде не было видно. Чистый лист бумаги с ледяным пером валялся на полу, на него падал чёрный снег.
Громов бросился к Виктору, грузно опускаясь на колени.
— Виктор?! Фира правая, что случилось?! Где Языкова?! Ты жив?! Что это было?! — его голос хрипел от ужаса. Он чувствовал на коже остатки чёрной, чужеродной молнии Виктора и леденящее, безжизненное прикосновение Смерти, витавшее в воздухе. Его руки крепко сжимали плечи парня, пытаясь встряхнуть.
Гарадаев не двигался с места. Его тень распласталась по полу, беззвучно «обнюхивая» пепел и то место, где исчезла Языкова. Он медленно поднял щепотку пепла, растёр её между пальцами. Его лицо было ледяной маской, за которой скрывался всепоглощающий ужас и внезапное, холодное понимание. Тень подняла бесформенную «голову» и издала тихий, протяжный, угрожающий вой, от которого застыла кровь.
— Пепел... не от бумаги... И не от дерева... — прошептал Гарадаев, глядя то на Виктора, то на пустоту, то на то место, где лежал блокнот Ирины, которого теперь не было. Его голос был низким, полным неверия и ужаса. — Это... Смерть. Здесь была Смерть.
Тельдаир, всё ещё стоя в проёме, нарушил тяжёлое молчание. Его голос прозвучал тихо, но чётко, перекрывая затухающие стоны.
— Энергетический всплеск... он был колоссальным. Я читал о подобных сигнатурах только в архивах Мидира, в разделе... запрещённых практик. — Он указал взглядом на пустое место. — Она использовала разрыв реальности. Очень нестабильный. Следы... они похожи на те, что описывают в случаях экстренного телепорта при угрозе разоблачения.
Пока Громов осматривал ожог на руке Виктора, а Гарадаев вглядывался в гаснущие трещины, Тельдаир сделал лёгкий шаг внутрь, якобы чтобы помочь. Он «случайно» наступил на единственный полуживой лепесток розы, укатившийся под стол. Под его ногой лепесток бесшумно превратился в чёрную пыль. Его взгляд упал на Виктора и задержался на ожоге.
— Виктор... что она заставила тебя сделать? Ты чувствовал... вытягивание жизни?
Виктор, придя в себя, смотрел туда, где исчезла Языкова. Его глаза были полны ужаса и чистой, немой ярости. Он прошипел сквозь стиснутые зубы одно единственное слово, с трудом выдыхая воздух:
Гарадаев резко повернулся к Тельдаиру. Его тень мгновенно сфокусировалась на мидирце, замерла в напряжённой, наблюдающей позе. Голос Григория Галиновича прозвучал жёстко и подозрительно:
— Откуда ты... так осведомлён о запретных практиках и разрывах реальности, Тельдаир? И как ты успел оказаться здесь?
Тельдаир встретил его взгляд. Его лицо снова стало маской вежливого, но отстранённого ученика. Он слегка наклонил голову.
— Мидирская Академия даёт глубокие знания, Григорий Галинович. Особенно тем, кто интересуется... аномалиями. — Едва заметная, формальная улыбка коснулась его губ, не достигая холодных глаз. — И я был рядом в учительской. Просто... оказался в нужном месте, чтобы услышать тревожные звуки и предупредить Степана Максимовича. Вам нужна помощь с Виктором или оповещением Легиона? Или я могу удалиться?
Гарадаев молчал. Его взгляд переходил с бесстрастного лица Тельдаира на свою тень, которая так и не расслабилась, продолжая беззвучно «изучать» мидирца. Громов, подняв голову от Виктора, смотрел на Тельдаира с нарастающим недоумением и новой, глубокой тревогой.
В этот момент в дверях за спиной Тельдаира появился запыхавшийся Павлин. Его глаза были широко раскрыты от ужаса, он обводил взглядом разрушенный кабинет и Виктора.
— Виктор! Что... что случилось?! Степан Максимович, Григорий Галинович... он...
Громов резко обернулся к нему, не отрывая подозрительного взгляда от Тельдаира.
— Павлин! Хорошо, что ты здесь. Отведи Виктора в медпункт. Немедленно. У него шок и ожоги. Иди!
Павлин кивнул, бросился к Виктору, подхватил его под руку, осторожно помогая встать.
— Пошли, Искра... Держись...
Тельдаир, видя, что внимание сместилось, сделал безупречно вежливый поклон-кивок Громову и Гарадаеву.
— Я понял. Желаю удачи в расследовании этого... ужасного инцидента.
Он развернулся, пропуская Павлина с шатающимся Виктором, и ушёл абсолютно бесшумно. Его спина была неестественно прямой, а шаги не оставляли ни малейшего следа на пепле и осколках. Он растворился в темноте коридора, словно его и не было.
Гарадаев смотрел ему вслед. Его тень медленно повернула «голову», провожая Тельдаира, пока тот не скрылся из виду.
— Этот мидирец... его осведомлённость... его спокойствие... и как он ушёл... — прошептал он Громову, пока Павлин уводил Виктора. — Степан, это было... Как ходячий архив. Или призрак.
Громов, стирая сажу со лба, смотрел то на пепел и гаснущие трещины, то в пустоту коридора, где исчез Тельдаир. Его голос был глухим и усталым.
— Призрак... или что-то похуже, Григорий. Похуже. Веспера... Смерть... и этот... «мидирец». Что за ад творится в этих стенах?
Они стояли среди разрушенного кабинета. Холод и эхо тихих стонов всё ещё висели в воздухе, как невидимая, липкая паутина. Тень Гарадаева снова сжалась в тревожный, живой комок у ног хозяина. Всё стало на свои места — исчезновения были из-за Языковой, а Шепчущие Тени на первое сентября приманила именно она.
Школьный лазарет тонул в неестественной, гнетущей тишине, нарушаемой лишь мерным, чуть затруднённым дыханием Виктора и тихим жужжанием магического кристалла над его койкой, заливавшим его бледное лицо холодным голубоватым светом. Воздух был стерильным и тяжёлым, пахло резковатым запахом лечебных мазей и травяных настоек.
Дверь открылась беззвучно, впуская в это застывшее царство тишины сломленную фигуру. Димитрий Таранис стоял на пороге, его мощная спина землероя была сгорблена, будто под невидимым грузом. Вся его одежда была покрыта свежей пылью и комьями влажной, тёмной земли — он примчался прямо с поля, не заходя домой, не переодеваясь. Лицо его было серым, измождённым, глаза воспалёнными и красными от бессонницы и слёз, которые он отчаянно сдерживал. Он медленно, почти неуверенно переступил порог и подошёл к койке, не сводя с сына широко открытых, полных ужаса глаз. Он тяжело опустился на стул рядом, отчего тот жалобно заскрипел. Несколько долгих секунд он просто молчал, тяжело дыша, и смотрел на Виктора, словно проверяя, цел ли он, дышит ли, жив ли.
— Мать... подойдёт позже... — его голос прозвучал хрипло, едва слышно, слова давались с трудом. — Она сказала... что ты... живой. — Он сглотнул комок, застрявший в горле, и его кадык нервно дёрнулся. — Что учительница... эта Языкова... она... — Он не смог договорить, не в силах вымолвить слова «маг смерти», слишком нереальным и чудовищным это было для его простого мира.
— Пап... Я... — слабо попытался начать Виктор.
— Молчи, — резко, но без злобы перебил его Димитрий, и в его голосе сквозило лишь отчаяние. — Просто... помолчи. Дай мне посмотреть на тебя. — Он осторожно, с величайшей бережностью, чтобы не задеть бинты, взял руку сына и крепко сжал её в своей большой, загрубевшей ладони. Его рука отчётливо дрожала.
— Знаешь... — продолжил он, глядя уже не на Виктора, а куда-то в пустоту перед собой, и его голос набирал силу от нахлынувших, долго сдерживаемых эмоций. — Когда твой дядя, мой брат... собрался уходить в Мидир... Он тоже так... светился. Не буквально, как ты сейчас, — он кивнул на остаточные искорки на коже Виктора, — а вот этим. — Он ткнул пальцем себе в грудь, почти с яростью. — Этой... одержимостью. Этой верой, что он должен туда, что там его жизнь, его правда. Что здесь, в Нищуре, среди нас, обычных людей... ему тесно. Что он видит что-то... большее.
Голос Димитрия внезапно сорвался, став тихим и надтреснутым.
— И я... я так боялся его отпускать! Не потому что не верил в него! Поверь... — он посмотрел Виктору прямо в глаза, и в его взгляде стояла многолетняя, невысказанная боль, — он был сильнее меня умом, духом... всегда. Я боялся того мира, куда он рвался. Мира, где учителя могут быть... этим, — он кивнул в сторону кабинета Языковой. — Где тебя могут сломать, предать, стереть... как стирают имя с надгробия. И я... я не смог его удержать. Словами, угрозами, мольбами... Он ушёл. И... растворился там. Как пар над той Ржавой Рекой.
Он наклонился ближе, его прерывистое дыхание было горячим.
— И теперь... теперь ты. Ты лезешь в те же самые щели! Ищешь те же самые «правды»! И смотри... — он развёл руками, указывая на лазарет, на бинты, на бледное лицо сына, — во что это уже вылилось! Чуть не умер! Чуть не стал... как те, кого она... — Он снова не смог договорить, сжав кулаки.
— Пап... Я не ищу смерти, — тихо, но твёрдо сказал Виктор. — Я ищу... ответы. Чтобы такое, как с Языковой, не повторилось. Чтобы Зою и Ирину... нашли. Чтобы...
— Ответы?! — перебил его Димитрий, его голос на мгновение сорвался на крик, но тут же ослаб, и он сник, будто вся энергия мгновенно его покинула. — Какие ответы?! Ответы — это грязь Нищура под ногтями, это урожай, это семья, целая и невредимая за столом! Ответы — это жизнь, а не погоня за призраками в тоннелях и кабинетах смерти! — Он замолчал, тяжело дыша. По его запылённой щеке медленно скатилась слеза, оставляя за собой чистую, блестящую полосу.
— Я... я не хочу получить весточку о тебе... как получил о нём, — прошептал он, снова сжимая руку сына. — Пустую весточку. Я не хочу ждать у ворот... как ждал его. Год... два... десять... Пока надежда не стала... как эта пыль. — Он механически стёр пыль с рукава. — Я уже терял брата... Виктор... Не заставляй меня терять сына. Пожалуйста.
Димитрий замолк. Его могучие плечи затряслись от беззвучных, подавленных рыданий, которые он больше не в силах был сдерживать. В этот момент он был больше не землероем, не суровым отцом, а просто испуганным, сломленным человеком, столкнувшимся лицом к лицу с реальной, невыносимой возможностью потерять самое дорогое. Виктор смотрел на него и видел этот страх, этот настоящий, глубинный, не надуманный ужас — впервые так явно. Он не находил слов, что ответить. Он не мог пообещать перестать искать правду, но он понимал отца. Понимал всей душой. Он молча сжал его большую, дрожащую, шершавую руку в своей слабой, перебинтованной ладони. В лазаретной тишине, нарушаемой лишь мерным гудением кристалла, повисло его молчаливое понимание и прерывистое, сдавленное дыхание отца.
Хотите поддержать автора? Поставьте лайк книге на АТ.