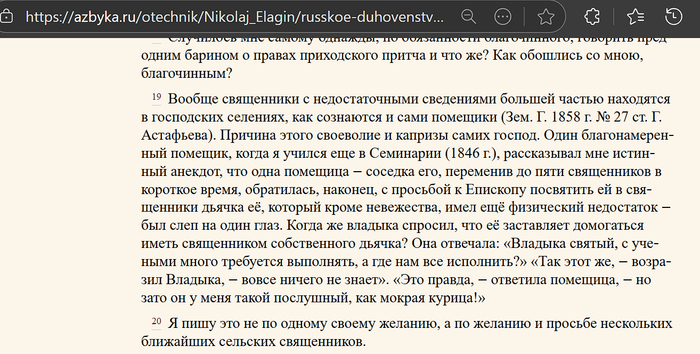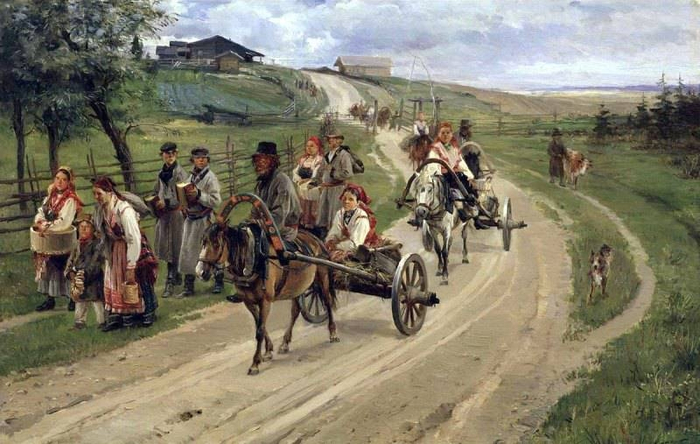<...>
Одну способность только показывает большая часть учителей — обирать деньги.
Зло это всюду пустило глубокие корни; но нигде оно не обнаруживается так небоязненно, так нагло, с такими страшными притязаниями, как в духовных училищах, в духовных правлениях и консисториях.
Приводят мальчика в училище; отец должен его явить смотрителю и пятерым учителям. Явить — значит принести деньги.
При этом случае от беднейшего причетника требуется не менее двух руб. сер. смотрителю, и не менее рубля на каждого учителя.
Священник должен представить вчетверо или по крайней мере втрое.
Мы сказали: требуется и должен; так — тут не произвол их, и не средства, которыми они могут располагать, определяют сумму взноса, а воля того, к кому приносятся деньги.
И напрасны тут просьбы, напрасны даже слёзы: кто стоит на одном, что не в силах дать требуемого, тот выгоняется в толчки; a что последует за тем, увидим дальше.
Та же история повторяется после святок, после Пасхи, после ваканта, — непрерывно во всё продолжение курса.
Но зачем же дают?
Затем, что горе тому мальчику, отец которого когда-либо не выплатил назначенного: месть жестокая, неумолимая, зверская, преследует его с утра до ночи на каждом шагу.
Истязаниям несчастного, — и каким страшным истязаниям!… нет ни конца ни меры.
Скажем одно: в один и тот же день от двоих учителей ученику случается вытерпеть до 200 розог, самых безпощадных, потому что учитель стоит тут же и кричит: больнее, больнее!
Секущий из учеников хорошо знает, что за малейшее послабление ему грозит тоже казнь, и потому напрягает все силы удовлетворить учителя.
И этого мало: ученика, едва вставшего с полу, учитель хлещет — рукой, книгой, чем пришлось, по ушам, по голове, по щекам, вырывает у него целые клочья волос и пр. и пр.
И это на неделе повторяется два, три раза.
Жаловаться смотрителю ученики не смеют и думать; за жалобой неизбежно следует наказание от смотрителя, — не палачу-учителю, а тому же ученику. В деле грабежа они действуют общими силами и поддерживают один другого.
И кому же эти казни? Мальчику — от 8 до 14 лет!
Тут нисколько не помогают ни добрые успехи, ни прекрасное поведение: отъявленный негодяй пользуется и лаской и приветом от всех, если отец его и поит смотрителя с учителями всегда до упаду, и тащит им — от денег и до яиц, обильно; прекраснейший мальчик, но сын бедного отца, засекается, — именно засекается.
Не дальше, как два года назад в N училище двенадцатилетнего мальчика, таким образом наказанного и не за вину, а за то, что отец его не привёл учителю корову, который тот требовал, принесли на руках домой, и он на другой же день помер. И это дело не редкое.
Почему же несчастный отец не жаловался?
И почему не жалуются вообще на разбой и грабеж учителей и смотрителей? Скажем дальше.
И исчисленным поборам еще не конец. Это всё только по мелочам. Самый главный – при переводе из одного класса в другой, и особенно в семинарию. Вот, напр., как это делается. В 1855 году из... училища за месяц до экзаменов все ученики были разосланы по домам со строжайшим приказанием: принести по стольку-то (смотритель сам назначал цену), с предостережением таковым, кто принесет меньше назначенного, тот будет оставлен, кто совсем не принесет, – будет исключен. Высшая цена (на долю многих священников) была назначена 50 р. сер., низшая (на долю беднейших причетников) 5 р.
Что было делать отцам? Не представить назначенного – угроза исполнится без сомнения, и сыновей или исключат (а куда деться с мальчиком в такие лета!) или оставить в том классе, – а чего стоит пробыть лишних два года ученику (6-летнее обучение в училище делилось на 3 «класса» – по два года в каждом. – В.Ф.), не говоря уже о неизбежной мести. И некоторые, преимущественно отцы негодяев, поспешили исполнить требуемое. Большая же часть, особенно же те, которые решительно не имели возможности прислать назначенную сумму, или рассчитывали на то, что дети их вполне достойны перевода, явились к смотрителю.
Здесь начались торги, и некоторым сделаны уступки. Те же, которые осмелились ничего не заплатить и даже пригрозить жалобой, выгнаны от смотрителя со срамом. Какой же конец?
Дети первых переведены, дети последних или оставлены или исключены.
Нашлись однако же, которые в самом деле принесли жалобу семинарскому правлению.
Что ж!
Смотрителя вызвали для объяснения (объяснения!, когда нужно было сделать строжайшее исследование! Так у нас и всегда: попадется какой-нибудь бедняк, его задавят следствиями; наделает всех мерзостей человек денежный, его вызовут в губернский город, – для чего, понятно; тем все дело и кончается). Как и что он объяснял, неизвестно; но преспокойно возвратился в свой город и смелее прежнего продолжает свои действия.
Теперь о жалобах.
Почему не жалуются?
Вот, напр., отец засеченного мальчика приехал в город и в самом деле приготовил жалобу; но у него учатся еще два сына; принесши жалобу, нужно было бы сейчас же взять их из училища, иначе и им была бы не лучшая судьба; а он в своем-то городе едва может содержать их, – куда же бы он их дел?
Подумал, поплакал, погоревал и отдал на суд Божий.
Вот, напр., лет тому десять, жестокости смотрителя и инспектора N-кого училища сделались до того невыносимыми, что ученики стали бегать из училища.
Принесли жалобу семинарскому правлению.
Дело весьма важное; поехал исследовать сам ректор семинарии Что ж он сделал?
Провел целую неделю у смотрителя, не выходя из комнаты, а что делал, Бог знает.
Затем явился в училище, пересек жесточайшим образом учеников и донес, что ученики взбунтовались и что он прекратил бунт… Взбунтовались мальчики от 8 до 14 лет, даже и отцы которых, под жесточайшей тиранией, при миллионах несправедливостей, не смеют и помыслить о чем-либо подобном!…
Случилось даже однажды, что профессор (семинарии. – В.Ф.), посланный в N-ское училище, честно произвел следствие и обнаружил все мерзости смотрителя и учителей!
Что ж вышло из этого?
Смотритель поспешил побывать у ректора семинарии у письмоводителя архиерея – велено переисследовать. Понятно, что новое следствие вполне оправдало виновных. Следователя вытеснили из семинарии с дурным аттестатом. Кто ж осмелится после этого производить следствие строго-справедливо? К чем уже, значит, и жалобы? И еще ли после этого спросят: почему не жалуются?
Предположим даже, что жалобу, принесенную академическому правлению, приехал произвести исследование честнейший и благороднейший человек, и что (самое важное условие) он может, не опасаясь дурных для себя последствий, открыть правду.
Что он будет делать? Допрашивать учеников?
Но разве не сумеют заранее запугать мальчиков?
Разве осмелятся они, при официальном допросе, высказать, что-либо, еще не зная, что не останутся у них смотритель и учителя те же?
Разве осмелятся даже отцы их, при таком же допросе, высказать что-либо, вполне убежденные, что за это достанется детям их, если не в училище, так в семинарии.
(На наших глазах было: профессор риторики, – теперь кафедральный протоиерей, – жесточайшим образом гнал весьма хорошего ученика единственно за то, что отец его обличил смотрителя в утайке и хищении жалования бедным ученикам; не проходило почти класса, чтобы не обращался к ученику со словами: «А отец твой кляузник, доносы пишет; значит и ты такой же негодяй, такая же гадь, такой же разбойник…» и прочее, что срамно писать; наконец добился-таки что этого ученика исключили); а еще может достаться и им самим?
Но предположим, наконец, что все осмелились, и виновные наказаны; что же?
Явятся другие и будут продолжать то же, как и во всех других училищах, ни на волос не изменят своих действий, рассчитывая, и весьма вероятно, что не всякий же раз будут жаловаться, и не всякий раз будут приезжать подобные следователи.
Нет, никакая частная жалоба не поправит дела!
А пусть бы если не во все, то хоть в большую часть училищ были назначены ревизоры, и – светские, всенепременно светские, преимущественно из недавно кончивших курс университета; пусть бы они пожили в городе недели две-три, отнюдь не объявляя, кто они, расспрашивали учеников в квартирах, на улицах; пусть бы после этого заглянули раз пять в училища во все времена дня, особенно до классов и в конце классов, одевшись как можно хуже (conditio, sine qua non); пусть бы внимательно всмотрелись во все – от физиономии учителей и до их обращения с учениками, до их способа преподавания; пусть бы наконец, как простые путешественники, побывали по селам и порасспросили отцов виденных ими учеников о том, каково учиться их детям и как ведутся дела в училищах; – пусть бы только это сделалось!…
О, тогда увидели бы и узнали бы все, что́ такое наши училища! Тогда до последней буквы оправдалось бы все сказанное нами; дальше, – тогда узнали бы и то, чего еще и сказать мы не осмелились!…
Тогда, и только тогда, изучив в основании зло, можно бы вырвать его с корнем. До тех же пор, чтобы ни делали, все по-пустому; до тех пор самые благие распоряжения не принесут никакой пользы.
Описание сельского духовенства, автор: Иоанн Стефанович Беллюстин, священник,
Опубл.: 1858. Источник: Русский заграничный сборник. Описание сельского духовенства. Берлин, A. Asher & Co., 1858
Иоа́нн Стефа́нович Белю́стин (Беллю́стин; 10 января 1819, Старица, Тверская губерния — 2 июня 1890, Калязин, Тверская губерния) — российский публицист, священник Тверской епархии.
1858 один из друзей Погодина издал в Лейпциге без согласия Б. (см.: Погодин М. П., Объяснение.– PB, 1859, май, кн. I; Барсуков, XV, 115–30) и без имени автора его кн. «Описание сельского духовенства» – страстное публицистич. произв., где Б. нарисовал картину глубокого социального унижения и бедности осн. массы рус. духовенства, с яростным негодованием обрушившись на церк. элиту, в к-рой он видел гл. виновника такого положения. Несмотря на запрещение к ввозу в Россию, «эта громкая книга... написанная... не чернилами, а кровью», получила распространение: «все интеллигентные люди... постарались е е достать... или прочитать...» (Певницкий В. Г., Записки...– PC, 1905, No 9, с. 542–43). Обер-прокурор Синода гр. А. П. Толстой назвал Б. «духовным Щедриным» (ЛН, т. 63, с. 198; др. отклики – Никитенко, ук.; ЛН, т. 63, ук.). Задаче нейтрализовать влияние книги (вскоре перевод на франц. и нем. языки) служили тенденциозная брошюра (А. Н. Муравьёва) «Мысли светского человека о книге Описание сел. духовенства» (СПб., 1859), в к-рой Б. обвинялся в клевете на рус. церковь, и составл. бывш. цензором Н. В. Елагиным сб. «Рус. духовенство» (Б., 1859), в свою очередь подвергнутые резкой критике Н. А. Добролюбовым (рец. на «Мысли...» и ст. «Заграничные прения о положении рус. духовенства»).
По сообщению «Колокола» (1859:15 апр.), Б. «чуть было не сослали на каторгу», и только заступничество одного из членов царской фамилии помешало этому. В дальнейшем церк. начальство дважды, в 1861 и 1875, отклоняло ходатайство прихожан о назначении Б. настоятелем собора.
По свидетельству как сторонников, так и противников Б., «Описание...» послужило толчком к преобразованиям в дух. ведомстве (см. Барсуков, XV, 130).
А самого Б. вывело на самостоят. дорогу в лит-ре. В 60-х гг. он печатался в «Ж-ле Мин-ва нар. просвещения», в «Рус. вест.», в газ. «Совр. летопись», «День», «Москва» и др. Периодом наиб, активной публицистич. деятельности Б. были 70-е гг. В 1871–72 он опубл. ряд статей в славянофил, ж. «Беседа», а затем становится пост, сотрудником демокр. «Недели» и либеральной газ. «Церковно-обществ. вест.», программа к-рой была ему (как и Н. С. Лескову, не раз сочувственно упоминавшему о Б.) особенно близка.
Андрей Николаевич Муравьёв "Мысли светского человека о книге: «Описание сельского духовенства»"
https://azbyka.ru/otechnik/Andrej_Muravev/mysli-svetskogo-ch...
Что касается до поборов учителей с учеников и до их истязаний, то, по словам автора, оные дошли до такой степени, что одному ученику от двух учителей случается вытерпеть в день до 200 розог, самых беспощадных, за то только, что родители ничего на заплатили учителю (стр. 11), учитель же тут стоит и кричит: больнее, больнее, и потом еще бьет мальчика в голову в рвет ему волосы, повторяя такие истязания по два и по три раза в неделю. Дикая сия картина могла только осуществиться в разгоряченном воображении писателя; и можно ли поверить ему на слово, чтобы родители засеченных мальчиков молчали потому, что у них учатся еще и другие дети? Как все это преувеличено и написано с ветра! Если бы, на основании таких жалоб, без поверки, писать новые для училищ уставы, то пришлось бы изменять их каждый день.
Источник: Мысли светского человека о книге: "Описание сельского духовенства" / [А.Н. Муравьёв]. - Санкт-Петербург : тип. Королева и К°, 1859. - 16 с.
Николай Васильевич Елагин, Русское духовенство
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Elagin/russkoe-duhovenstv...
Источник: Русское духовенство : [Сборник] / [Сост. Н.В. Елагин]. - Берлин : Тип. К. Шультце, 1859. - XIII, 375 с.
Что касается до взяточничества учителей и начальствующих в духовных училищах, то оно, по словам автора, простирается до того, что отцы должны платить им после каждого возвращения детей в училище, даже в иных местах будто бы назначается сумма, какую они должны внести за детей своих при переводе их из одного класса в другой, так что на долю священника приходится уплаты до 50 рублей серебром. Иначе если он ничего не взнесет, то сына его исключают из училища, хотя бы он был отличный ученик как по успехам в науках, так и по поведению. А если взнесет отец неполную сумму, то оставляют сына его в том же класс еще на курс или над ним, несчастным, совершается страшная месть. Где видел автор подобное распоряжение – про то он знает. По крайней мере из нас, учившихся в духовных училищах, по крайней мере из отцов, воспитавших детей в духовных училищах, конечно никто не видел и не испытал подобных распоряжений. Да и кто может поверить этому? Стоит только взять во внимание бедный быт сельского иерея или даже прочитать про нищету сельского иерея, как она описывается самим автором, и каждый придет к заключению, что при такой крайней бедности никакой сельский иерей не в состоянии платить за перевод каждого сына из класса в класс, и притом платить сумму не малую, доходящую до 50 руб. серебром! И сколько есть, например, между знаменитыми нашими иерархами таких, которые, как дети бедных иереев и даже причетников, должны были воспитываться в крайней бедности! Как же им удалось, при таком распоряжении училищного начальства, успешно окончить курс учения и потом стать на чреду высокого служения? Или все они исключение из общего правила? Странно! И между тем автор не побоялся подтвердить свою сказку словами: «Сему свидетель Сам Господь!»
А зверское обращение учителей с учениками, описанное автором?
Читаешь и дивишься, как у него достало терпения изображать такие грубые картины.
Прочитайте в самом деле его описание и вы увидите, что учитель духовного училища это не современный нам человек, это не Христианин, нет, это какой-то дикий вандал, или нет, это какой-то бешеный зверь, без всякого разбора бросающийся на каждого для того только, чтобы уязвить его, нанести ему вред. Странное, неслыханное явление такой учитель, согласимся однако, что есть где-то такие учители, но отчего же этот самый зверь, вышедший из духовного училища и сделавшийся, например, законоучителем в каком-нибудь светском или военном учебном заведении, вдруг делается здесь таким кротким, таким любвеобильным, что, по общему отзыву питомцев, он добрее, нежнее прочих преподавателей, вступивших на поприще педагогическое из университетов и институтов?
Добролюбов Н. А.
Заграничные прения о положении русского духовенства(Русское духовенство. Берлин, 1859)
Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в трех томах
М., «Художественная литература», 1987
Том третий. Статьи и рецензии 1860—1861. Из «Свистка». Из лирики. Примечания Е. Буртиной
<...>
Жалобы эти могут показаться очень основательными тем, кто незнаком со всеми условиями, от которых зависит в России выход книг, трактующих о духовных предметах. Но стоит раскрыть нам Цензурный устав, и дело объяснится. Там мы увидим, что один из основных пунктов устава есть то, что не должно пропускать в печать ничего противного православной церкви.
Но этим дело не ограничивается.
Всякая книга и статья, трактующая о предметах духовных, не доверяется разрешению одного общего, гражданского цензора, а отсылается в духовную цензуру. Подробностей устава духовной цензуры мы не знаем; но на основании многих фактов, которых нам привелось быть свидетелями, полагаем, что он очень строг или очень неопределенен). Так, например, мы постоянно видим, что отзывы о лицах духовного звания смешиваются с мнениями о самой церкви и на этом основании, как противные православию, не пропускаются в печать, за весьма редкими исключениями.
Основам православия нисколько не повредит, если станут писать, например, о духовных консисториях, о существующих отношениях высшей духовной власти к низшему причту, об отношениях священника к прихожанам, об организации учебной части в духовных училищах
В 1858 году за границей вышла в свет анонимная книга «Описание сельского духовенства» («Русский заграничный сборник», ч. 1, тетрадь 4, Париж, 1858). Она была написана по поручению М. П. Погодина его корреспондентом священником И. С. Беллюстиным в виде записки о положении низшего духовенства в России (об истории возникновения замысла и напечатания книги см.: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XV, СПб., 1901, стр. 115—130, а также «Объяснение» Погодина, опубликованное в «Русском вестнике», 1859, май, кн. 1, стр. 43—50).
Проникнув, несмотря на официальное запрещение, в Россию, «Описание» было воспринято здесь как одно из проявлений общественной гласности и произвело сильное впечатление. 16 июня 1859 года А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Вчера я прочел книгу, которая навела меня на грустные размышления… Ужаснейшая картина положения нашего духовенства! Говорят, эту книгу представляли митрополиту и другим духовным властям. Они разгневались и назвали все это клеветою» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, Гослитиздат, 1955, стр. 31).
Особую нетерпимость к «Описанию» проявил близкий к руководящим церковным сферам А. Н. Муравьев. По свидетельству Н. Барсукова, он настоятельно обратился к митрополиту: «Прикажите непременно написать ответ на книгу о сельском духовенстве. Вы медлите, а книга сия, как яд, производит глубокие язвы в высшем кругу, и ей верят, как евангелию». Автором «ответа» был сам А. Н. Муравьев (см.: Г. Геннади. Справочный словарь о русских писателях и ученых, т. II, Берлин, 1880, стр. 352).
Примечание из книги: Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в девяти томах. Том четвертый Статьи и рецензии. Январь-июнь 1859. М.-Л., 1962, ГИХЛ