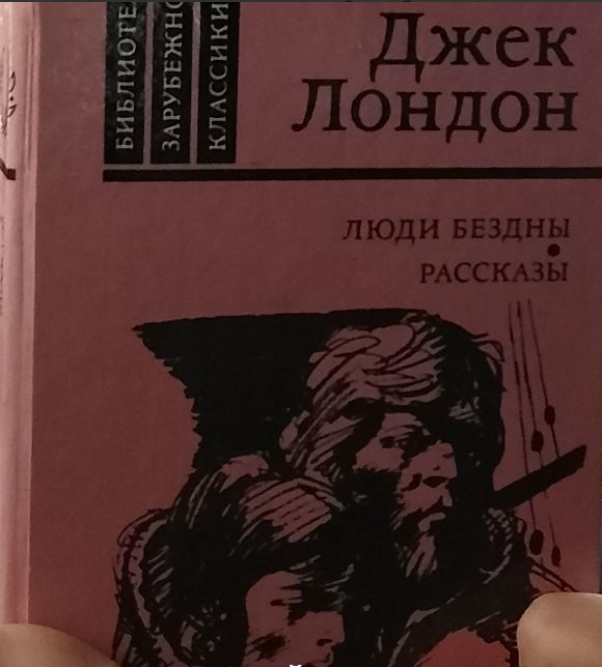И, конечно же, Иден. Тот, чьи светлые, светло-аристократичные идеалы столкнулись с низменностью в высших кругах.
В этом затейливом деле значительно оказала услугу нейросеть. И, так как формат и объем текста выходит за рамки простого поста, я выложу это в виде статьи. В двух частях. Первая - о персонажах. Вторая часть - гипотетическая беседа, сконстструированная нейро-диалогом, самого писателя со своими "тенями", творениями.
Зимний ночной лес был не простым. Он был первозданным. Снег, пушистый и глубокий, поглощал все звуки, кроме одного — яростного треска поленьев в ярком костре. Пламя било вверх багровым копьём, и миллионы искр уносились в чёрную высь, словно души, жаждущие свободы. Они рождались, жили секунду и гасли в ледяном воздухе. Свет Луны, отражённый от белоснежного покрова, заливал всё вокруг фосфоресцирующим сиянием, создавая мир призраков и теней.
И в центре этого мира, посреди высоких и могучих елей и сосен, вокруг живого сердца из огня, сидели четверо мужчин. Четверо, кого судьба вырвала из своих времён и швырнула сюда, в этот хвойник, в этот 2025 год, что висел за спиной, как тяжёлый, ненужный багаж. В котелке на костре потихоньку закипала вода.
Эламу Харниш, «Время-не-ждёт», сидел на корточках, почти касаясь земли. Он был кряжист и подвижен, как медведь. Его руки, могучие и в шрамах, без устали подбрасывали в огонь сушняк. Он не мог сидеть без дела. Энергия бурила его изнутри. Волк Ларсен восседал на самом массивном бревне. Он не сутулился, его спина была пряма, как клинок. Он не грелся у огня — он принимал его тепло как дань. Его лицо, высеченное из гранита, было обращено к пламени, а холодный и всевидящий взгляд уходил куда-то далеко, поверх огня, в самую глубь тёмного леса. Он был центром тишины в центре шума. Смок Белью устроился практично и удобно. Он подложил под себя еловые ветки, чтобы не мёрзнуть от снега, и аккуратно поправлял костёр длинной палкой, направляя искры в сторону от товарищей. В его движениях была врождённая интеллигентность и забота о других. Мартин Иден сидел, обхватив колени, подтянув их к подбородку. Он был бледен, его худое лицо казалось маской, на которую огонь отбрасывал дрожащие тени. Он не видел ни леса, ни снега — он впитывал ощущения, превращая их в будущие строки. Он видел не костёр, а «багровый цветок, рвущийся с цепи».
Молчание первым нарушил Харниш. Он выпрямился, суставы его хрустнули.
— Чёрт возьми, Ларсен! — его хриплый смех разорвал морозную плёнку тишины. — От тебя одного, как от ледника, мороз по коже дерет. Сидишь, будто мир должен тебе денег. Неужели тебе не охота двинуться? Чувствую, как сила по жилам разливается! Жжётся светлое время! Давай-ка, померимся, кто кого? По-дружески!
Он встал в бойцовскую стойку, его тень, уродливо-гигантская, заплясала на соснах. Ларсен медленно перевёл на него свой взгляд. В его глазах не было ни гнева, ни интереса. Лишь холодное, научное любопытство, с каким смотрят на дерущихся жуков.
— Борьба? — его голос был низким и ровным, как гул подземного толчка. — Это инстинкт самцов, лишённых настоящей цели. Ты тратишь энергию, которую мог бы обратить в волю. Ты хочешь доказать, что ты сильнее? Сила не доказывается. Она констатируется. Когда ты владеешь кораблём, никто не спрашивает, сильнее ли ты юнги.
Харниш расхохотался, но не сел.
—Воля! К чему твоя воля в мире, где всё решают бумажки с водяными знаками? Там, на Аляске, всё было ясно. Ударь первым, будь быстрее, будь хитрее — и золото твоё. А сейчас? Сиди в конторе, улыбайся тому, кого в гробу видал, и подписывай бумаги. От этой кабинетной вони душа вянет.
— Ты ошибся, Харниш, — парировал Ларсен. — Ты ищешь новый Клондайк, но смотришь под ноги. Ты не видишь, что золотая лихорадка никогда не заканчивалась. Она просто сменила прописку. Она теперь в цифровых потоках, в данных, что бегут по проводам быстрее, чем любая собачья упряжка. Твоя ошибка в том, что ты пытаешься мыть золото в реке, которую кто-то уже заключил в трубу и провёл в каждый дом. Найди тот кран и перекрой его. Вот где настоящая борьба.
Харниш вдруг отбросил в сторону свою куртку и, уперев локоть на старый ровный пень, обнажил мускулистую, испещрённую шрамами руку.
—Ладно, Ларсен. Хватит языком молоть. Ты говоришь о воле, я — о деле. Давай решим здесь и сейчас, чья правда крепче. Или боишься, что бывалый моряк проиграет сухопутной крысе с Юкона?
Ларсен медленно повернул голову. В его глазах мелькнула искра холодного, хищного интереса. Он молча встал, и его тень накрыла Харниша, словно крыло гигантской птицы. Он не снимал куртки, лишь расстегнул её. Его собственная рука, хоть и не такая бугристо-мускулистая, как у соперника, казалась вылитой из стали.
Они сцепили ладони. Руки, каждая из которых могла свернуть шею медведю, сошлись в мертвой хватке. Смок Белью стал невольным судьёй.
— На счёт три, — тихо сказал он.
— Начали!
Мускулы вздулись, как канаты. Костяшки побелели. Но их голоса оставались ровными, лишь с лёгкой хрипотцой от напряжения.
Харниш: (сквозь стиснутые зубы) – Видишь? Вот она... жизнь! Борьба! Ты чувствуешь, как она бьётся в жилах? Твоя воля... против моей силы! Что твоя философия против вот этого?
Ларсен: (его лицо было спокойно, лишь глаза сузились): – Я вижу лишь биологический процесс. Сокращение мышц. Выброс адреналина. Ты наслаждаешься иллюзией, что это нечто возвышенное. Я же вижу работу механизма. И механизм этот управляем.
Рука Ларсена, под давлением Эламу, дрогнула и на сантиметр приблизилась к пню. Искры из костра, казалось, застыли в воздухе, наблюдая.
Харниш: (торжествуя) – Иллюзия, говоришь? А эта боль в твоей руке — тоже иллюзия? Это самая честная вещь на свете! Она не врёт, как твои бумажки с биржами!
Ларсен: – Боль — это сигнал. Сигнал о повреждении. Сильные игнорируют сигналы. Слабые... подчиняются им. Ты ошибаешься, думая, что я стремлюсь к комфорту. Нет. Я стремлюсь к власти. А власть — это способность заставить боль... служить себе.
И в этот момент что-то изменилось. Медленно, неумолимо, словно набегающая волна, рука Ларсена пошла в обратную сторону. Напряжение в его руке не увеличилось — оно... перераспределилось. Это была не грубая сила, а тотальный контроль над каждой мышцей, каждая из которых была подчинена одной цели — победить.
Ларсен: (тихо, почти шёпотом, но так, что было слышно всем) – Ты борешься, чтобы почувствовать себя живым. Твоя сила ищет выхода. Моя воля... ищет применения. И в этом наша разница.
С последним словом рука Харниша с грохотом ударилась о пень. Борьба была окончена. Харниш отшатнулся, тяжело дыша, глядя на свою дрожащую руку, а потом — в непроницаемое лицо Ларсена. В его взгляде не было злобы. Было изумление, ярость и... уважение.
— Чёрт тебя побери, — выдохнул Харниш. — Ты и вправду не человек. Стихия.
Ларсен разжал пальцы, сел на своё бревно и снова уставился в огонь, словно ничего и не произошло.
—Стихии подчиняются, Эламу. Или используют их. Другого не дано.
В молчании, последовавшем за их схваткой, было больше смысла, чем во всех предыдущих словах. Это было молчание двух полюсов, двух несовместимых истин, которые только что измерили свою мощь и нашли друг в друге достойного противника.
Пока два титана мерялись философией и силой, на другом «фланге» костра завязалась иная беседа. Вода в котелке уже закипела; и Смок Белью, достав из рюкзака заварник, стал засыпать в него чай.
—Чай покрепче согреет лучше любого спиртного, — заметил он, обращаясь к Идену. — И голова ясная.
Мартин Иден вздрогнул, вынырнув из своих мыслей.
—Ясная голова… — повторил он с горькой иронией. — А есть ли в этом смысл? Чтобы ясно видеть всю ту пошлость, что творится там? — Он мотнул головой в сторону, за лес, в невидимый мир. — Они создали мир для удобства, но убили в нём всё, ради чего стоит жить. Красоту. Страсть. Жертвенность.
Смок аккуратно налил кипятка.
—Не соглашусь. Страсть никуда не делась. Просто сейчас она не в том, чтобы пробиваться сквозь пургу с риском для жизни, а в том, чтобы, например, отстоять свою маленькую правду в огромном лживом мире. Или построить бизнес, не дав ни одной взятки. Это тоже подвиг.
— Подвиг? — Иден горько усмехнулся. — Их называют «неформатами». Маргиналами. Я писал о страсти, о любви, что ломает хребты условностям. А мне сказали: «Неактуально. Публика хочет лёгкого чтива и инфографику». Современная женщина… О, не дай бог назвать её «дамой»! Она сочтёт это оскорблением своему «эго». Она не хочет быть музой, она хочет быть конкурентом. И в этой погоне за равенством она растеряла всё своё очарование.
Смок задумчиво помешал чай.
—А я, пожалуй, с ними солидарен. Я видел на Клондайке женщин, которые были крепче иных мужчин. И честнее. Они не ждали, что их будут спасать. Они были партнёрами. И в этом есть своя красота — красота равенства и уважения. Современная девушка, которая в одиночку путешествует по миру, или строит карьеру, или, прости, чинит свой автомобиль сама… Разве в этом нет духа авантюризма, который нам с тобой так дорог?
— Дух есть, — согласился Иден, — но исчезла тайна. Всё вывернуто наизнанку, выставлено в соцсетях, оценено лайками. Любовь превратилась в «свидания», искусство — в «контент», а дружба — в «нетворкинг». Всё помешано на полезности. А где же безумие? Где тот поступок, который не имеет смысла, кроме одного — он прекрасен?
— Возможно, он просто ушёл вглубь, — мягко сказал Смок, протягивая Идену кружку с дымящимся чаем. — И его теперь сложнее разглядеть. Но он там есть. Нужно только знать, где искать.
Разговор у костра постепенно слился воедино.
— Вы говорите о смыслах, — вновь вступил Ларсен, и все замолкли. Его голос резал воздух, как сталь. — Вы ищете его вовне — в женщинах, в искусстве, в социальных конструкциях. Вы — рабы смысла. А я говорю: смысл не ищут. Я — смысл. Моя воля — это закон для всего, что меня окружает. Ваш 2025 год болен тем, что каждый ждёт, пока смысл ему назначат — правительство, мода, блогер. Они добровольно стали рабами.
— А ты не раб? — резко спросил Иден, впервые глядя Ларсену прямо в лицо. — Ты раб своей гордыни. Ты построил трон изо льда и сидишь на нём, презирая всех, кто не может вынести твоего холода. Но даже лёд тает. Что останется, когда растает твой?
— Останется то, что было всегда, — не моргнув, ответил Ларсен. — Ничто. Жизнь — это буря страстей в океане небытия. Ваши «смыслы» — это всего лишь поплавки, за которые цепляются слабаки.
Эламу Харниш, слушавший этот диалог, вдруг громко рассмеялся.
—Чёрт вас побери, философы! Вы тут о смыслах, о воле, о ничто… А я вот что думаю. Жжётся светлое время! Вот и весь смысл. Неважно, в лесу ты, на Уолл-стрит или в бабушкиной хрущёвке. Делай дело. Люби женщину. Пей чай. Дыши полной грудью. А когда придёт твой час — умри стоя, а не на коленях. Всё остальное — дым, который ветром развеет.
Он поднял свою кружку с чаем.
—За тех, кто в пути! И чтобы время для нас никогда не догорало!
Смок Белью тут же поднял свою. За ним, после секундного колебания, Иден. Ларсен не поднял кружку. Он лишь медленно, почти незаметно, кивнул. И в этом кивке было больше уважения, чем в десятке громких тостов.
Искры от костра взмывали вверх, к холодным звёздам, смешиваясь с их светом. Четверо мужчин, четыре легенды, затерянные во времени, сидели у огня. Лес молчал. Луна светила. А время, которое не ждёт, на мгновение замерло, заворожённое этой картиной — вечной, как сама борьба человека с миром и с самим собой.
В воздухе повисло новое напряжение, чужеродное. Оно исходило от пятой фигуры, вдруг появившейся и сидевшей в стороне, на заваленном снегом валуне. Этот человек не был ни кряжистым, как Эламу, ни мощным, как Ларсен. Он был поджар, жилист. Его лицо, обветренное и испещрённое ранними морщинами, хранило следы невероятной усталости и такой же невероятной жажды жизни. Он курил трубку, и дым её смешивался с дымом костра, словно две разные правды. Он молча наблюдал за ними, и его взгляд был одновременно отстранённым и проникающим в самую суть. Взгляд творца, оценивающего свои работы.
Молчание, как и в прошлый раз, нарушил Эламу Харниш. Он с раздражением покосился на незнакомца.
— Эй, приятель! От тебя не меньше холода веет, чем от нашего ледника Ларсена. Ты кто такой и что тут забыл?
Незнакомец медленно вынул трубку изо рта. Уголки его губ тронула усталая усмешка.
— Можно сказать, я вас всех здесь и забыл. Или вы меня. Вопрос философский.
Голос его был низким, хрипловатым, но в нём была странная магнетическая сила. Все четверо невольно насторожились.
— Ваши слова лишены логики, — холодно констатировал Ларсен, впервые оторвав взгляд от огня и уставившись на незнакомца. — Ты не обладаешь силой, чтобы быть нашим создателем. Ты не обладаешь выправкой воина. Ты — никто.
— Сила, — негромко произнес незнакомец, — бывает разная, капитан. Твоя — чтобы ломать. Моя — чтобы создавать. Даже тебя.
Мартин Иден вдруг выпрямился. Его глаза, привыкшие впитывать впечатления, расширились от внезапного прозрения. Он вглядывался в это лицо, в эти уставшие, все понимающие глаза.
— Я... я знаю вас, — прошептал он. — Я читал вас. Вы... вы писали о море. О волках. О... обо мне. Вы — Джек Лондон.
Воздух сгустился, стал вязким, как смола. Имя, прозвучавшее в ночи, ударило по ним, как обухом. Даже Ларсен на мгновение замер.
Лондон кивнул, снова затягиваясь трубкой.
— В каком-то смысле. Я — тень, которую он отбросил. Мысль, которую он не дописал. Я здесь, потому что вы здесь. Самые яркие, самые неуправляемые.
— Значит, ты — Бог этой маленькой вселенной? — в голосе Ларсена зазвенела сталь. — Тот, кто расставил нас, как пешки?
— Бог? Нет. — Лондон горько усмехнулся. — Скорее, грешник, который не знает, как отпустить свои грехи. Я не управляю вами. Я лишь дал вам голос. А что вы им кричите в ночь — это уже ваш выбор.
Харниш фыркнул.
— Выдал нам голос? Да ты выдал нам судьбы! Одну — позорнее другой! — он сердито ткнул пальцем в Идена. — Этого заставил свести счёты с жизнью из-за дурацкой тоски! Этого, — палец переместился на Ларсена, — упекли в бессилие и слепоту! Где справедливость?
— Справедливость? — Лондон покачал головой. — Я писал не о справедливости, Эламу. Я писал о правде. Правда Севера, правда моря, правда человеческой души — они редко бывают справедливыми. Ты же сам это знаешь. Ты выживал, а не искал справедливость.
— Но зачем тогда всё это? — вскричал Мартин Иден, и в его голосе была настоящая боль. — Зачем вы дали мне чувствовать так остро, видеть такую красоту и такой ужас, если всё равно всё кончится пустотой? Я был вашим пером! Вашей мечтой о чём-то высоком! И вы меня убили!
Лондон посмотрел на него с бездонной печалью.
— Мартин, — сказал он тихо. — Ты был моим предупреждением. Себе самому. О том, что будет, если идеал столкнется с реальностью без кожи. Я не убил тебя. Я показал цену идеала. И, боюсь, заплатил ею сам.
В разговор мягко вступил Смок Беллью, до сих пор молча наблюдавший.
— Мистер Лондон, вы дали нам не только смерть или поражение. Вы дали нам силу. Волю к жизни. Умение держаться до конца. Разве это не важнее счастливого конца?
— Важнее, Смок, — согласился Лондон. — Ты всегда был самым разумным из моих детей. Ты понял главное: выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на перемены. Ты принял мир, не сломавшись. В отличие от них.
Ларсен поднялся с бревна. Его фигура заслонила луну.
— Ты говоришь, что не управляешь нами. Но ты создал меня из своего собственного чёрного пессимизма, своей ненависти к слабости. Я — твоя тень, твоё «что, если?». Что, если довести волю до абсолюта? И ты испугался меня. Ты размягчил меня этой жалкой болезнью, этим распадом. Ты не смог вынести собственное творение.
Лондон встретил его взгляд не моргнув.
— Правда, Волк. Полная правда. Я испугался тебя. Потому что я чувствовал, что часть меня — та, что ненавидела толпу, презирала слабых, — по-настоящему восхищается тобой. И чтобы остаться человеком, я должен был тебя уничтожить. Это был акт самозащиты.
Воцарилась тишина, ещё более громкая, чем прежде. Открывались бездны. Создатель каялся перед своими творениями. Творения обвиняли его в своих трагедиях. И тут Ларсен неожиданно тихо рассмеялся. Это был сухой, редкий звук, похожий на треск льда.
— И что же теперь? Мы — призраки в лесу, а ты — призрак призраков. Мы обречены на вечное странствие, а ты — на вечное созерцание этого странствия.
— Возможно, — Джек Лондон снова набил трубку. Искра от костра прилетела и на секунду зажгла табак. — Но пока мы здесь, давайте сделаем то, что всегда делали настоящие люди у костра. Давайте рассказывать истории. На этот раз... вы расскажете их мне. Какую правду вы нашли в этом леске, в 2025 году, в котором никогда не будете жить?
Он посмотрел на них — на мятежного моряка, на золотоискателя, на идеалиста-писателя и на практичного героя. И в его взгляде была не гордость творца, а что-то вроде тоски по дому. По тем частям своей души, которые он когда-то отпустил в свободное плавание и которые, в конце концов, нашли его в этой холодной, вечной ночи.
Лес молчал. Звёзды холодно сияли. А у костра творец и его творения наконец-то сели в один круг.