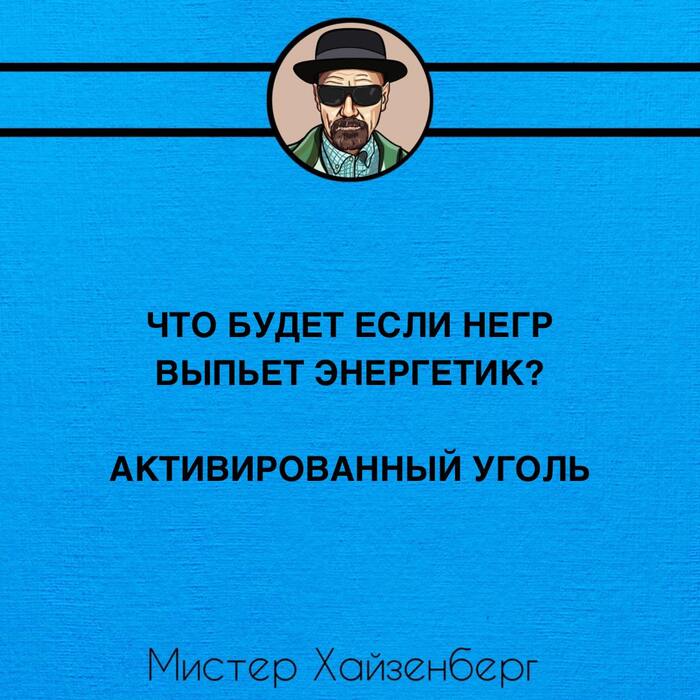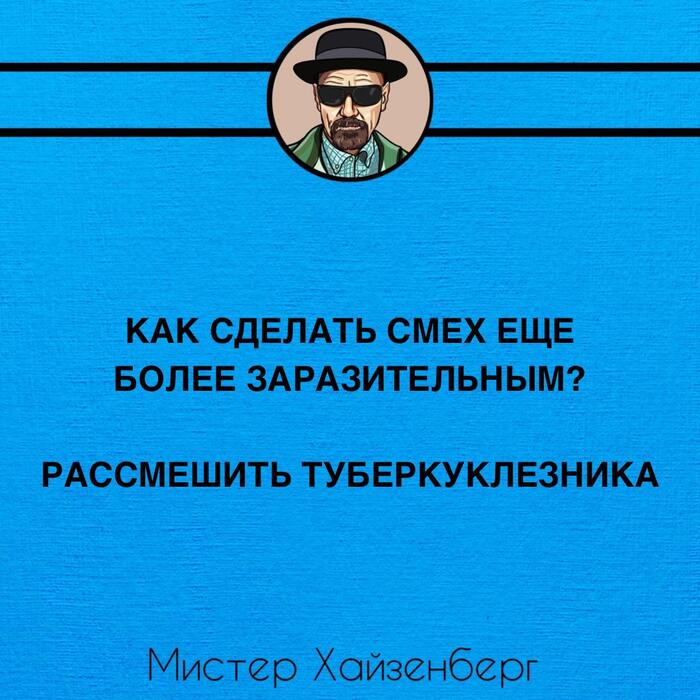Ответ на пост «"О мертвых либо хорошо..." - какой была изначальная версия поговорки?»2
Кто-то ещё верит в греков, особенно древних? Один из них сказал что-то, и это повторяли из уст в уста 700 лет без искажений, пока другой не повторил. Потом ещё сколько сотен лет повторяли без искажений. Затем кто-то так и записал. Через иного лет разные люди переводили на многие языки без искажений, и вот через сколько там тысяч лет мы читаем эти слова, которые тот первый грек сказал. Конечно, так всё и было, никаких сомнений. В столетних документах больше вопросов чем ответов, а тут какие-то несколько тысяч лет устных пересказов. Верим, как не верить, грек сказал, значит так и было.
Если мёртвый был засранцем, правда ему не повредит, а живым поможет.
Дэвид Гребер (1961-2020) Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда М., 2020 г
Глава 7. Каковы политические последствия бредовой работы и можно ли как-то изменить ситуацию?
...Разумеется, Фуко известен главным образом как теоретик власти, которая, по его мнению, пронизывает все человеческие взаимоотношения и вообще выступает основным содержанием человеческой социальности, — он как-то определил власть просто как «воздействие на действия других людей» *. Это всегда звучало несколько парадоксально: с одной стороны, на основании сочинений Фуко можно предположить, что он был противником авторитаризма и противостоял власти, а с другой стороны, он определял власть таким образом, что социальная жизнь оказывалась без нее невозможной.
* Иногда указывают, что Фуко нигде не дает определения власти, и он действительно обычно несколько уклончив в этом отношении. Однако когда он всё же обращается к этому вопросу, то определяет власть как «воздействие на действие», а ее осуществление как «воздействие на действия других людей» (см.: Фуко М. Субъект и власть // Интеллектуалы и власть. Т. 3. М., 2006. С. 180-181). Удивительным образом это ближе всего к линии Парсонса.
Утопия правил: о технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии. М. 2016.
Откуда появилась тяга к бюрократии, бесконечным правилам и уставам? Как вышло, что сегодня мы тратим массу времени, заполняя различные формуляры? И действительно ли это шифр к разгадке сути государственного насилия?
Чтобы ответить на эти вопросы, антрополог Дэвид Гребер исследует неожиданные связи современного человека с бюрократией и показывает, как эти взаимоотношения формируют нашу повседневность.
Эта книга — сборник эссе, каждое из которых показывает, в каких направлениях может развиваться левая критика, которой, по мнению Гребера, бюрократии остро не хватает.
Введение
Далее появляется еще одно утверждение: бюрократия по сути своей представляет собой врожденный порок демократического проекта. Самым видным выразителем этой мысли был Людвиг фон Мизес, австрийский аристократ в изгнании. В 1944 году он выпустил книгу «Бюрократия», в которой утверждал, что правительственные системы по определению не могут организовывать информацию так же эффективно, как безличные рыночные ценовые механизмы. Тем не менее предоставление права голоса проигравшим в экономической игре неизбежно оборачивается призывами к правительственному вмешательству, которое рисуется благородным инструментом, позволяющим решить социальные проблемы административными методами. Фон Мизес был готов признать, что многие сторонники подобных решений действуют из лучших побуждений, однако их усилия только усугубляют ситуацию. Действительно, он считал, что они окончательно уничтожат политическую основу самой демократии, потому что администраторы социальных программ неизбежно будут объединяться и получат намного большее влияние, чем победившие на выборах политики, руководящие правительством, и станут поддерживать еще более радикальные реформы. Фон Мизес утверждал, что социальные государства, формировавшиеся в те годы в таких странах, как Франция или Англия (не говоря уже о Дании или Швеции), через одно-два поколения неизбежно придут к фашизму.
С этой точки зрения рост бюрократии стал ярким примером того, как благие намерения оборачиваются кошмаром. Возможно, наиболее емко эту мысль выразил Рональд Рейган в своей знаменитой фразе : «Девять наиболее страшных слов в английском языке: "Я из правительства и я здесь, чтобы помочь вам"».
Проблема в том, что все это очень слабо связано с тем, что происходило на самом деле. Прежде всего, исторически рынки не возникли как некое пространство свободы, не зависимое от государственных властей и противостоящее им. Все было ровно наоборот. Изначально рынки появлялись как побочный эффект от действий правительства, особенно военного характера, или же непосредственно создавались руководящей верхушкой.Так было, по крайней мере, с момента начала чеканки монет, изначально применявшихся для снабжения солдат; на протяжении большей части истории Евразии обычные люди использовали неформальные кредитные соглашения, а физические деньги, золото, серебро, бронза и тот вид безличных рынков, который они сделали возможным, были в основном приложением к мобилизации легионов, разграблению городов, взиманию дани и захвату добычи.
Современные центральные банки тоже были созданы для финансирования войн. Так что в традиционной версии истории фигурирует изначальная проблема. Но есть и еще одна, даже более драматичная. Мысль о том, что рынок в определенном смысле независим от правительства и противостоит ему как минимум с XIX века, служила оправданием либеральной экономической политики, направленной на сокращение роли правительства, но на деле это так не работало. Английский либерализм, например, привел не к снижению доли государственной бюрократии, а ровно к противоположному результату, то есть к бесконечному разбуханию армии конторских служащих, регистраторов, инспекторов, нотариусов и полицейских чиновников, которые сделали возможным осуществление либеральной мечты о мире свободных сделок между самостоятельными индивидами. Оказалось, что поддержание рыночной экономики требует в тысячи раз большей бумажной волокиты, чем абсолютная монархия в стиле Людовика XIV.
Этот парадокс, состоящий в том, что политика правительства, направленная на снижение его вмешательства в экономику, в конечном итоге ведет к большему регулированию и увеличению числа бюрократов и полицейских, можно наблюдать настолько часто, что, на мой взгляд, мы вполне можем считать его общим социологическим правилом. Предлагаю называть его Железным законом либерализма:
Железный закон либерализма гласит, что всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство с целью уменьшить бюрократизм и стимулировать рыночные силы в конечном итоге приводят к увеличению общего объема регулирования, общего количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов, которых привлекает на службу правительство.
На заре XX века эту тенденцию отметил французский социолог Эмиль Дюркгейм *, и в дальнейшем игнорировать ее стало невозможно.
* В дюркгеймовской традиции ее обозначили как «внедоговорный элемент в договоре», что стало одним из наименее привлекательных социологических определений всех времен. Дискуссия берет начало от работы Дюркгейма «О разделении общественного труда» (М.: Канон, 1996)
Дэвид Гребер (1961-2020) Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда М., 2020 г
Глава 7. Каковы политические последствия бредовой работы и можно ли как-то изменить ситуацию?
О том, как в условиях менеджериального феодализма политическая культура стала поддерживаться балансом разных форм злобы
...Точно так же обстоит дело и с яростной враждебностью по отношению к учителям начальной и средней школы, которая наблюдается в США. Иначе объяснить ее невозможно. Разумеется, школьный учитель — это просто идеальный пример человека, который выбрал социально значимую и благородную профессию, полностью осознавая, что будет получать низкую зарплату и работать в напряженных условиях. Учителями становятся те, кто хочет позитивно влиять на жизни других людей. (Как гласило объявление о приеме на работу, размещенное в нью-йоркском метро, «никто двадцать лет спустя не звонит оценщику страховых исков, чтобы поблагодарить его за работу».) И опять же, судя по всему, именно это и делает учителей легкой добычей в глазах тех, кто называет их избалованными, капризными и зажравшимисяразносчиками антицерковных, гуманистических и антиамериканских идей.
...За примером можем снова обратиться к Голливуду: в тридцатые и сороковые годы само слово «Голливуд», как правило, ассоциировалось с волшебным продвижением по социальной лестнице, ведь Голливуд был местом, где простая деревенская девушка могла, отправившись в большой город, привлечь к себе внимание и стать звездой. Здесь нам не так важно, насколько часто такое происходило на самом деле (очевидно, время от времени это случалось); важнее, что в ту эпоху американцы не считали эту байку неправдоподобной. Взгляните сегодня на исполнителей главных ролей в любом известном фильме, и вы едва ли найдете хотя бы одного актера, который не может похвастаться по меньшей мере двумя поколениями голливудских актеров, сценаристов, продюсеров и режиссеров в своей родословной. В киноиндустрии теперь господствует эндогамная каста.
Стоит ли в таком случае удивляться, что когда голливудские знаменитости защищают политику равенства, то для американцев из рабочего класса это звучит несколько неубедительно? Причем Голливуд в этом отношении вовсе не является исключением. Наоборот, это характерный пример того, что произошло со всеми свободными профессиями, — может, в данном случае тенденция просто выражена чуть сильнее.
...Если вернуться к оппозиции ценности и ценностей, о которой шла речь в предыдущей главе, то можно сказать так: если вы просто хотите заработать много денег, то есть шанс, что вы найдете способ это сделать. В то же время если вы стремитесь к какой-либо другой ценности — будь то ценность истины (журналистика, наука), красоты (мир искусства, издательское дело), справедливости (активизм, правозащитная деятельность), благотворительности и так далее — и хотите при этом получать зарплату, на которую можно жить, то у вас попросту ничего не выйдет, если ваша семья не обладает определенным состоянием, а у вас нет необходимых социальных связей и культурного капитала. Таким образом, «либеральная элита» — это люди, которые фактически закрыли доступ к любым позициям, на которых можно получать деньги за то, что делают не ради денег. Представителей этой элиты воспринимают как тех, кто пытается (и зачастую успешно) представить себя в качестве новой американской аристократии. Схожим образом голливудская аристократия монополизировала наследственное право на все рабочие места, которые позволяют хорошо жить и при этом чувствовать, что служишь какой-то большой цели, — иными словами, чувствовать себя благородным человеком.
...Около десяти лет назад я оказался на лекции Кэтрин Латц, антрополога, которая вела проект по исследованию американских военных баз, расположенных за рубежом. Тогда до меня впервые дошло реальное положение дел. Латц сделала интересное наблюдение: почти все эти базы организуют социально ориентированные программы, в ходе которых солдаты ремонтируют школы или проводят бесплатные стоматологические осмотры в ближайших городах и деревнях. Официально эти программы проводятся для улучшения взаимоотношений с местным населением, но они редко оказывают значительное воздействие в этом отношении. Однако их не закрыли даже после того, как военные обнаружили их неэффективность; дело в том, что эти программы оказывают огромное психологическое воздействие на солдат. Многие солдаты приходили в восторг, когда описывали свой опыт, например: «Именно для этого я пошел служить в армию», «Вот что на самом деле значит служить в армии — не просто защищать свою страну, но и помогать людям!» Выяснилось, что солдаты, которым было разрешено заниматься общественными работами, в два-три раза чаще решали продолжить службу в армии. Я помню, как подумал: «Подождите, выходит, что большинство этих людей хотят служить в Корпусе мира?» Я проверил и выяснил: разумеется, оказалось, что для того, чтобы тебя приняли в Корпус мира, нужно закончить колледж. Армия США — прибежище для загрустивших альтруистов.
...Солдаты — единственное общепринятое исключение, потому что они «служат» своей стране; и я подозреваю, всё дело в том, что обычно они не получают от этого особой выгоды в долгосрочной перспективе. Это объясняет, почему правые популисты, которые безоговорочно поддерживают солдат во время военной службы, удивительно равнодушны к тому, что в итоге значительная их часть проводит остаток жизни без дома, без работы, в нищете, наркозависимости или сидя на улице без ног и попрошайничая. Ребенок из бедной семьи может сказать себе, что идет служить во флот ради образования и возможностей карьерного роста; но все знают, что в лучшем случае это лотерея. В этом и заключается его жертва, а значит, в этом и источник истинного благородства.
...Представители «либеральной элиты» вроде Билла Мара или Анджелины Джоли выглядят как люди, которые везде пролезли без очереди и завладели теми немногочисленными рабочими местами, на которых человек одновременно получает удовольствие, хорошую зарплату и возможность изменить мир, да еще и строят из себя поборников социальной справедливости. Они вызывают у рабочего класса особую ненависть, ведь мучительный, тяжелый, вредный для здоровья, но в то же время полезный для общества труд, кажется, никогда не привлечет внимания и интереса этих эталонных либералов. Однако это безразличие сочетается с откровенной враждебностью, которую представители «либерального класса», застрявшие на высокопоставленной бредовой работе, испытывают к самим представителям рабочего класса из-за того, что те могут жить честным трудом.
Как нынешний кризис, связанный с роботизацией, соотносится с более масштабной проблемой бредовой работы
Пуританство: маниакальный страх, что кто-нибудь где-нибудь может быть счастлив.
Генри Луис Менкен
О политических последствиях бредовизации и последующего снижения производительности в сфере заботы, а также о том, как это связано с возможным восстанием заботливого класса
Начиная по меньшей мере со времен Великой депрессии мы слышим предупреждения о том, что автоматизация труда лишает или вот-вот лишит миллионы людей работы; Кейнс тогда придумал термин «технологическая безработица», и многие решили, что массовая безработица 1930-х была лишь предвестьем приближающейся грозы. Может показаться, что эти заявления были некоторым алармизмом, однако моя позиция здесь состоит в том, что на самом деле всё наоборот: они были абсолютно верными. Автоматизация действительно вела к массовой безработице; мы попросту остановили этот процесс за счет создания фиктивных рабочих мест, фактически выдумав их. Политическое давление как справа, так и слева, а также глубоко укоренившееся в массах представление о том, что человек может быть нравственно полноценным благодаря одной только оплачиваемой работе, и, наконец, опасения части высшего класса (отмеченные Джорджем Оруэллом уже в 1933 году), что трудящимся массам может прийти в голову бог знает что, если у них будет слишком много свободного времени, — всё это привело к убеждению, что, какими бы ни были реальные условия, официальные показатели безработицы в богатых странах должны колебаться в диапазоне от трех до восьми процентов. Но если исключить бредовую работу и ту настоящую работу, которая нужна исключительно для поддержки бредовой, то можно заключить, что предсказанная в тридцатые катастрофа действительно произошла. Более пятидесяти-шестидесяти процентов населения лишились работы.