
Снайпер-шаман Семен Номоконов
15 постов

15 постов
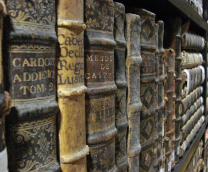
12 постов

15 постов
Итак, я закончил ужасающую историю различных родов казней, столь жестоко употреблявшихся в древние времена и до французской революции. Прежде чем я начну описание единственного рода казни, признанного в настоящее время французскими законами и правительством, и прежде чем я оставлю в стороне это древнее феодальное общество, защитники и блюстители блага которого, казалось, сделали этот ужасный вызов преступникам: «Совершайте самые преступные и неслыханные злодеяния — мы сумеем в нашем мщении сделаться преступнее и ненавистнее вас».
Прежде чем приступить к описанию казни на гильотине, оглянемся назад и рассмотрим, какие утешения доставляло то же самое общество виновным.
В средние века приговоренный к смерти мог быть спасен женщиной, если она согласится выйти за него замуж. Историки приводят множество примеров, а многочисленные народные сказания увековечили память об этом, Кто не знает истории Пикара, «к которому, когда он стоял на лестнице, привели бедную девушку дурного поведения, обещая, что ему спасут жизнь, если он согласится, клянясь своей честью и спасением души жениться на ней. Но когда он, захотев ее увидеть, заметил, что она хромает, то обернулся к палачу и воскликнул: „Вскидывай, вскидывай, она хромая“».
Карл VI, по просьбе Пьера де Краона, ликвидировал 12 февраля 1396 года обыкновение отказывать в просьбе дать исповедников приговоренным к смерти. Тот же Пьер де Краон приказал воздвигнуть каменный крест с изображением Господа Иисуса Христа подле виселицы, у которого преступники останавливались, чтобы исповедаться в своих прегрешениях, преподнести подаяние парижским и францисканским монахам, чтобы обязать их в принятии на себя на веки вечные этот долг милосердия.
Сначала францисканцы напутствовали приговоренных, а впоследствии эту печальную обязанность приняли на себя доктора теологии монастыря Сарбонского. В настоящее время преступников сопровождают до места казни пешком или на тележке священнослужители различных вероисповеданий. В средние века казнь преступников была зрелищем, которое откладывали до праздничных дней; отвозя их на место казни, делали много остановок. Останавливались на дворе Девственниц Бога, где им давали стакан вина и три куска хлеба. Этот полдник называли последним куском осужденного. Если он ел с аппетитом, то это считали хорошим предзнаменованием для его души.
Анри Сансон, Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции
12 февраля 1929 г.
Устно, стенограмма
… Вы спрашиваете, какие перспективы национальной культуры. Ясно, она будет развиваться. Конечно, мы могли бы, придя в страну, сказать: «Ну, мы маленько подождем, как будет партийный аппарат национализироваться на Украине, литература, профессиональный аппарат, государственный и проч.» Мы на это так смотреть не можем, мы должны это дело двинуть вперед активно. Вот насчет темпа - в этом и состоит покровительственная политика советской власти в отношении развития национальных культур, т. е. то, чем советская власть принципиально отличается от всякой другой власти. А всякая другая власть боится развивать национальную культуру, потому что по-буржуазному - развитие других национальностей есть решение в сторону… (не слышно).
Перспективы какие? Перспективы такие, что национальные культуры даже самых малых народностей СССР будут развиваться и мы будем им помогать. Без этого двинуться вперед, поднять миллионные массы на высшую ступень культуры, и тем самым сделать нашу промышленность, наше сельское хозяйство обороноспособными, - без этого мы не сможем.
Крестьянин - одно дело, если он 4 класса прошел, некоторые элементарные агрономические знания приобрел, если может ориентироваться, - такой крестьянин поднимает сельское хозяйство; другое дело - абсолютно безграмотный, элементарных знаний нет. На каком языке его образовывать? Только на народном, потому что других языков он не знает.
Перспективы такие, что национальные культуры будут развиваться, а советская власть должна развитию национальных культур помогать. Об этом т. Каганович говорил с вами, долго я распространяться не буду, но два слова скажу, что надо различать в национальной культуре две стороны: форму и содержание.
Когда говорят - форма ничего не значит - это пустяки. От формы страшно много зависит, без нее никакого содержания не бывает. Форма - национальная, содержание - социалистическое. Это не значит, что каждый литератор должен стать социалистом, марксистом и проч. Это не необходимо. Это значит, что в литературе, поскольку речь идет о литературе, должны появиться новые герои. Раньше обычно героев иных выдвигали, теперь появиться должны герои из народа, из крестьян, из буржуазии - в том освещении, которого они заслуживают.
Взять, например, таких попутчиков, - я не знаю, можно ли строго назвать попутчиками этих писателей, - таких писателей, как Всеволод Иванов, Лавренев. Вы, может быть, читали «Бронепоезд» Всеволода Иванова, может быть, многие из вас видели его, может быть, вы читали или видели «Разлом» Лавренева. Лавренев не коммунист, но я вас уверяю, что эти оба писателя своими произведениями «Бронепоезд» и «Разлом» принесли гораздо больше пользы, чем 10–20 или 100 коммунистов-писателей, которые пичкают, пичкают, ни черта не выходит: не умеют писать, нехудожественно.
Или взять, например, этого самого всем известного Булгакова. Если взять его «Дни Турбиных», чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мыслей. Однако своими «Турбиными» он принес все-таки большую пользу, безусловно.
КАГАНОВИЧ: Украинцы не согласны (шум, разговоры).
СТАЛИН: А я вам скажу, я с точки зрения зрителя сужу. Возьмите «Дни Турбиных», - общий осадок впечатления у зрителя остается какой? Несмотря на отрицательные стороны, - в чем они состоят, тоже скажу, - общий осадок впечатления остается такой, когда зритель уходит из театра, - это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди крепкие, стойкие, по-своему честные в кавычках, как Турбин и его окружающие, даже такие люди, безукоризненные по-своему и честные по-своему в кавычках, должны были признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь. Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. «Дни Турбиных» - это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма.
ГОЛОС: И сменовеховства.
СТАЛИН: Извините. Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие меры - не революционная и революционная, советская - не советская, пролетарская - не пролетарская. Но требовать, чтобы и литература была коммунистической - нельзя. Говорят часто: правая пьеса или левая, там изображена правая опасность. Например, «Турбины» составляют правую опасность в литературе. Или, например, «Бег», его запретили, - это правая опасность. Это неправильно, товарищи. Правая и левая опасность - это чисто партийное. Правая опасность - это, значит, люди несколько отходят от линии партии, правая опасность внутри партии. Левая опасность - это отход от линии партии влево.
Разве литература партийная? Это же не партийная, конечно, это гораздо шире литература, чем партия, и там мерки должны быть другие, более общие. Там можно говорить о пролетарском характере литературы, об антипролетарском, о рабоче-крестьянском характере, об антирабоче-крестьянском, о революционном, не революционном, о советском, антисоветском. Требовать, чтобы беллетристическая литература и автор проводили партийную точку зрения, - тогда всех беспартийных надо изгонять. Правда это или нет?
Возьмите Лавренева, попробуйте изгнать человека, он способный, кое-что из пролетарской жизни схватил довольно метко. Рабочие прямо скажут, пойдите к черту с правыми и левыми, мне нравится ходить на «Разлом», и я буду ходить, - и рабочий прав. Или возьмите Всеволода Иванова «Бронепоезд». Он не коммунист, Всеволод Иванов. Может быть, он себя считает коммунистом (шум, разговоры). Ну, он коммунист липовый (смех). Но это ему не помешало написать хорошую штуку, которая имеет величайшее революционное значение, воспитательное значение бесспорно. Как вы скажете - он правый или левый? Он ни правый, ни левый. Потому что он не коммунист. Нельзя чисто партийные мерки переносить механически в среду литераторов.
Я считаю, что тов[арищ] в очках, там сидящий, не хочет меня понять. С этой точки зрения, с точки зрения большего масштаба и с точки зрения других методов подхода к литературе, я и говорю, что даже и пьеса «Дни Турбиных» сыграла большую роль. Рабочие ходят смотреть эту пьесу и видят: ага, а большевиков никакая сила не может взять! Вот вам общий осадок впечатлений от этой пьесы, которую никак нельзя назвать советской. Там есть отрицательные черты, в этой пьесе. Эти Турбины по-своему честные люди, даны как отдельные оторванные от своей среды индивиды. Но Булгаков не хочет обрисовать настоящего положения вещей, не хочет обрисовать того, что, хотя они, может быть, и честные по-своему люди, но сидят на чужой шее, за что их и гонят.
У того же Булгакова есть пьеса «Бег». В этой пьесе дан тип одной женщины - Серафимы и выведен один приват-доцент. Обрисованы эти люди честными и проч. И никак нельзя понять, за что же их собственно гонят большевики, - ведь и Серафима и этот приват-доцент, оба они беженцы, по-своему честные неподкупные люди, но Булгаков, - на то он и Булгаков, - не изобразил того, что эти, по-своему честные люди, сидят на чужой шее. Их вышибают из страны потому, что народ не хочет, чтобы такие люди сидели у него на шее. Вот подоплека того, почему таких, по-своему честных людей, из нашей страны вышибают. Булгаков умышленно или неумышленно этого не изображает.
Но даже у таких людей, как Булгаков, можно взять кое-что полезное. Я говорю в данном случае о пьесе «Дни Турбиных». Даже в такой пьесе, даже у такого человека можно взять кое-что для нас полезное. Почему я все это говорю? Потому, что и к литературе нужно прилагать более широкие масштабы при оценке. Правый или левый не подходит. Можно говорить - пролетарский или антипролетарский, советский или антисоветский.
Взять, например, «Бруски» Парфенова. Сейчас самым характерным для деревни является то, что нет одной деревни. Есть две деревни. Новая деревня, которая поворачивается к городу, ждет от него тракторов, агрономических знаний и т. д., хочет жить по-новому, по-новому работать, связаться с городом. Это новая деревня. И есть старая деревня, которая чихать хочет на все новое, на трактора, на агрономические знания и т. д. Старая деревня хочет жить по старинке, - и гибнет. У Парфенова в «Брусках» замечательно обрисовываются эти две деревни, их борьба между собой.
Должна ли быть литература, рисующая деревню, крестьянской? Вот парфеновские «Бруски». Парфенова нельзя назвать крестьянским писателем, хотя он в своем произведении пишет только о крестьянстве, а о городе у него нет ни слова…
Конечно, неправильно, когда говорят, что на Украине литература должна быть чисто крестьянская. Неправильно это. Совершенно правильно то, что раньше рабочие на Украине были русские, а теперь - украинцы. Состав рабочего класса, конечно, будет меняться и будет пополняться выходцами из окружающих деревень. Это общий закон национального развития во всем мире. Если вы возьмете венгерские города лет 40 тому назад, они были немецкими, а теперь стали венгерскими.
Возьмите латышские города - они раньше были эстонские, теперь стали латышскими. Состав рабочего класса должен пополняться из окружающих деревень. За волосы нельзя вытаскивать национальности, это трудно и может вызвать отпор со стороны русских элементов и дать некоторый повод русским шовинистам; но, если взять естественный процесс, - не отставать от этого процесса, - национализация пролетариата должна быть и шаг за шагом должна идти. Это общий закон, и смычка национальная, смычка между городом и деревней пойдет.
Украинские рабочие в качестве героев произведений будут выступать, их много теперь. Даже коренные русские рабочие, которые отмахивались раньше и не хотели изучать украинского языка, - а я знаю многих таких, которые жаловались мне: «Не могу, тов. Сталин, изучать украинский язык, язык не поворачивается», - теперь по-иному говорят, научились украинскому языку. Я уже не говорю о новых рабочих, за счет которых будет пополняться состав рабочего класса. У вас сложится такая литература, как здесь, у русских.
Там будут изображены и рабочие, и крестьяне, и буржуазия, отрицательно или положительно, - все зависит от вкуса. Они будут изображены так же, как и в других советских странах. И разговоры насчет того, что у вас только крестьянская литература должна быть в смысле героев, они скрывают некоторый шовинизм насчет того, что, мол, плохо дело пошло; даже работники Украины как бы затормозили это дело и считают, что литература для рабочих должна быть русская, а для крестьян - украинская. Это - сознательная или бессознательная махинация у людей, которые не хотят понять того, что рабочий класс все время будет пополняться выходцами из окружающих деревень. Вот вам вопрос о перспективах.
Наша страна стала родиной первого воздушного и первого танкового тарана.
Первый танковый таран совершил в Испании Семен Кузьмич Осадчий.
29 октября 1936 года на легком танке Т-26 в бою под Мадридом он столкнул в пропасть легкий итальянский танк «Ансальд» вооруженный двумя спаренными пулеметами.
В этот день советские танкисты уничтожили, два эскадрона франкистов, 12 пушек, тридцать автомашин, сожгли танковое подразделение противника.
Танкистов Поля Армана, Дмитрия Погодина и Семена Осадчего советское правительство наградило звездами Героя Советского Союза.
Семён Осадчий погиб в бою 3 ноября 1936 года, его танк уничтожил две артиллерийские батареи и шесть пулеметчиков, когда вражеский снаряд пробивший броню оторвал танкисту ноги. 13 ноября не приходя в сознание, Семен Кузьмич скончался в госпитале.
Полковник Поль Матисович Арман погиб 7 августа 1943 года в бою под Ленинградом сраженный пулей немецкого снайпера.
Полковник Дмитрий Дмитриевич Погодин погиб 13 сентября 1943 года в бою под Перекопом. Обгоревшего командира из танка вынес на руках из боя его механик водитель, старшина Горелышев. Герой так и не узнал, что в этот день ему присвоили звание генерал-майора танковых войск.
За годы Великой Отечественной войны советские танкисты совершили 160 таранов, из которых 50 произошли в дни Курской битвы.
Поль Арман с восторгом и грустью писал, дочери с Ленинградского фронта о том, что ему не удалось поучаствовать в сражении под Прохоровкой:
«Сквозная атака! Смешались в кучу танки, люди. Сшибались в лоб, таранили друг друга, расстреливали сзади. Сто немецких танков горело одновременно. Ах, если бы мне собственными глазами увидеть такой костер! Всего же там уничтожили около трехсот пятидесяти танков и штурмовых орудий. Сбили острие танкового клина, которым фашисты пытались нас расколоть!».
Случалось, наши танкисты таранили во время войны и тяжелых «Тигров», рвали им гусеницы, «распускали по швам броню», деформировали катки.
Как правило, на таран шли при внезапной встрече с врагом, когда клинило пушку, или заканчивался боекомплект.
22 июня 1941 года первый таран совершил в Львовской области танк «КВ-1» комвзвода Павла Гудзя (пять КВ-1, два Т-34 и БА-10). К 12 часам дня советские танкисты записали в свой актив пять немецких «коробочек», два бронетранспортера, три грузовика, и одно противотанковое орудие.
В 8 км. от Яворова, Гудзь приказал механику-водителю Галкину сбить с дороги немецкий средний танк Panzerkampfwagen III. Механик-водитель до призыва в РККА работавший испытателем танков на Кировском заводе, мощным ударом опрокинул Pz.Kpfw.III в кювет.
За это бой Гудзя представили к ордену Красного Знамени.
С 22 по 27 июня танковый экипаж Павла Гудзя уничтожил 6 вражеских танков. Танкист был повторно представлен к ордену Красного Знамени, но ни одну награду в кровавой круговерти 1941 года так и не получил.
В ноябре 1941 года в бою под Москвой «КВ-1» Павла Гудзя вступил в бой с 18 немецкими танками. В тот день советские танкисты уничтожили 10 вражеских машин и 400 пехотинцев. После боя техники насчитали в нашем тяжелом танке 29 отметин от вражеских снарядов.
В боях под Сталинградом Павел Гудзь получил шесть осколков в грудь и два пулевых ранения, выжил и после лечения настоял на отправке его в действующую армию.
Осенью 1943 года танк подполковника Гудзя подбили. Два члена экипажа погибли, у Павла был перелом левой ключицы, и раздробление кисти руки. Отрезав финкой кисть, Гудзь обездвиженного танка подбил два немецких «Тигра». После госпиталя с протезом кисти он вновь вернулся на фронт, получив под командование 5-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк.
Летом 1944 года Т-34 под командованием двадцатидвухлетнего гвардии лейтенанта Дмитрия Евлампиевича Комарова ворвался в белорусскую деревню Черные Броды.
Наша тридцатьчетверка попала под прямой огонь немецкого бронепоезда. Командир экипажа приказал механику-водителю Михаилу Бухтуеву на максималке жать к бронепоезду. На полном ходу танкисты врезались и пустили под откос две бронеплощадки, и обездвижили состав. При таране Бухтуев погиб, а Комаров отстреливаясь от немецких пехотинцев, скрылся в лесу. Через семь дней его нашла наша разведгруппа. За этот подвиг Дмитрию Евлампиевичу Комарову присвоили звание Героя Советского Союза.
«Супердиверсант» III Рейха, «мастер нацистского террора» за время войны прославился одной успешной операцией, а диверсантом стал, испугавшись навсегда остаться под березовым крестом, вбитым в землю «варварской России».
До самой смерти Скорцени подвергался ночным паническим атакам, когда ему снились бои под Москвой зимой 1941 года. Напиваясь в узком кругу друзей нацистов, бывший оберштурмбанфюрер, пьяно подвсхлипывая задавал один и тот же вопрос:
На этот вопрос «человек со шрамом» ответил в книге воспоминаний «Неизвестная война». В ней он разложил по полочкам, почему немцы получили под Москвой звездюлей и стали отползать восвояси.
Саботаж немецкими генералами приказов фюрера:
Немецкие военачальники тяжело подчинялись приказам человека, брезгливо называемым ими «чешским капралом».
Советский вождь оказался умнее фюрера, проведя в армии предвоенную «чистку». Сталин не ослабил Красную армию, а многократно ее усилил. Советские генералы, выполняли приказы Верховного главнокомандующего, а не играли в подковерные игры и не готовили заговоры.
Осенью 1941 года в период наивысшего накала борьбы советские военноначальники беспрекословно исполняли приказы Сталина, а у Гитлера 20 июля 1944 года вспыхнул заговор генералов.
Военную разведку III Рейха возглавлял предатель:
«Абвер» адмирала Канариса перед войной не раскрыл потенциал и готовность к войне Советского Союза. Скорцени подозревал, что Канарис был завербован англичанами. Летом 1940 года адмирал намерено убедил фюрера не проводить «Морского льва» - операцию по высадке десанта на английское побережье. Он сказал, что немцам будут противостоять 19 дивизий, тогда как у англичан под рукой была только 3-я дивизия генерала Монтгомери, незадолго до этого бежавшая из Дюнкерка.
Если бы Гитлер до 22 июня 1941 года расправился с Англией, у него было бы больше шансов в войне с СССР.
Скорцени пишет, что после войны СССР с Финляндией (1939-1940) Канарис доложил фюреру о тотальной слабости Красной армии. Каково же было удивление немцев, когда в 1941 году они столкнулись со стойкими советскими солдатами, и абсолютно неизвестной советской техникой: «Т-34», «Катюши», «Ил-2».
Технический разнобой вермахта:
Разнообразие немецких автомобильных фирм не помогало на фронте, а мешало. В моторизованных дивизиях было до 2000 единиц техники, представленной иногда 50 модификациями или производителями.
Когда под Москвой ударили небольшие для русских морозы, оказалось, что в вермахте нет зимнего масла.
Раздолбайство тыловых служб:
Зимой 1941 года вместо зимнего обмундирования в Россию прислали форму песочного цвета сшитую для «Африканского корпуса» Роммеля. С погибших в бою советских воинов немцы снимали, полушубки, валенки, шапки и рукавицы.
Великолепная работа советской разведки:
У немцев не было агентов уровня:
- Разведывательная сеть «Красная Капелла»
- Вилли Леман, советский агент и по совместительству начальник отдела контрразведки на военно-промышленных предприятиях Германии, гауптштурмфюрер СС;
- Рихард Зорге;
- Николай Кузнецов.
По словам Скорцени весьма удачно его свалил на Восточном фронте приступ воспаления желчного пузыря. Недолго думая сапер лейбштандарта СС «Адольф Гитлер» свалил с фронта на лечение в Вену. Понимая, что скоро его отправят обратно в действующую армию, Отто упал в ноги командованию и попросил отправить его на курсы офицеров танкистов. Из-за роста ему отказали, предложив стать диверсантом, на что он, утирая скупые слезы, с радостью согласился.
Эта необычная история произошла в годы Великой Отечественной войны с моим давним боевым товарищем бывшим моряком-балтийцем Семеном Петровичем Наталухой. Во время неравного ожесточенного боя с фашистскими самолетами «морской охотник», на котором он служил, был потоплен прямым попаданием авиабомбы.
Наталуха и еще два матроса уцелели, но оказались в холодной осенней воде в открытом море. Надежды на спасение практически не было. Силы покидали моряков. И вдруг они увидели плавающую мину.
Осторожно подплыли к ней и, стараясь не прикоснуться к взрывателям, ухватились за транспортировочные поручни. Мина чуть просела в воде, закачалась, но не взорвалась.
Мышцы сводило от холода. Но в сто крат тяжелей было психологическое напряжение: ведь мина в любую минуту могла взорваться.
Семен Наталуха держался бодро. Он пытался шутить, убеждал товарищей, что помощь обязательно придет. Чтобы отвлечь моряков от тяжелых мыслей, поднять их дух, Семен вдруг запел свою любимую песню «Раскинулось море широко». Ребята подхватили. Где-то далеко на Ленинградском фронте раздавался гул орудий, а здесь звучала песня, укрепляя душу замерзающих, но не сдающихся матросов. А холод сводил судорогой мышцы, продирал до самых костей.
И вдруг в небе появился краснозвездный самолет. Ни взмахнуть руками, ни крикнуть матросы уже не могли, полностью обессилев. Но летчик их заметил. Самолет качнул крыльями и быстро пошел в сторону берега. Вскоре на выручку мужественным воинам пришел катер.
Спасенные были доставлены в госпиталь. Врачи их выходили. Но Наталухе ампутировали пальцы ног. Тем не менее все трое через несколько месяцев добились возвращения в строй защитников Родины.
Сейчас С. Наталуха живет в Днепропетровске. И хотя давно уже может идти на заслуженный отдых, продолжает трудиться стрелочником на железной дороге. И его по праву считают одним из лучших работников нашего объединенного хозяйства.
В. Ашурков, «Морские истории», 1989
Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» шел в Индийском океане. Стояла характерная для тропических широт зимняя погода: незнойное ласковое солнце подкрашивало нужной голубизной прозрачный чистый воздух и серебряными бликами играло в ярко-синих волнах. Было не жарко и даже свежо. Где-то далеко стороной прошел шторм.
Мы разминулись с ним, и только могучая океанская зыбь мерно раскачивала корабль. После тяжелого душного зноя экваториальной зоны, которую мы недавно пересекли, команда наслаждалась подарком погоды: свободные от вахт моряки искали работу на верхней палубе и постепенно почти все собрались - кто на юте, кто на шкафуте, кто на вертолетной площадке…
Ближе к вечеру погода вдруг стала меняться. Как-то сразу задул резкий, довольно сильный ветер. Крутые бока зыби подернулись морщинами ветровой ряби. Небо на западе заволокло плотными темными тучами. Солнце кануло в них, как в пучину, и только над горизонтом проступили неземной расцветки полосы: сквозь лиловые и оранжевые тона просочились алые потеки.
Ветровое волнение быстро усиливалось и, перемешиваясь с зыбью, создавало на воде беспорядочную толчею. Корабль не кренило, не швыряло, как обычно бывает в шторм, а трясло, словно телегу на булыжной мостовой. И, наверное, от этого в висках начало болезненно стучать, а в груди возникло необъяснимое беспокойство. Оно нарастало и нарастало, и вскоре я, не в силах больше находиться в каюте, вышел на шкафут.
Там группа моряков, возбужденно жестикулируя, обсуждала необычное начало шторма. Ветер уже вовсю свистел в мачтах. До шкафута долетали сорванные с волн тугие и хлесткие брызги. Корабль все сильнее, как бьющееся в агонии животное, колотила страшная дрожь. И тут произошло то, чему мы потом долго не могли найти объяснение.
За дверью, ведущей в коридор личного состава, послышались дикие вопли, и на шкафут выскочила взъерошенная и орущая корабельная кошка Мурка. Кто-то из матросов принес ее на корабль за несколько дней до начала похода. Моряки с любовью относились к Мурке, и она быстро привыкла к корабельной жизни.
В плавании мы штормовали уже несколько раз, и кошка вполне достойно переносила эти тяготы походной жизни: затихала в отведенном ей уголке и не выходила оттуда, пока шторм не прекращался. Но в тот день ее словно подменили. Шерсть у Мурки стояла дыбом, глаза вылезли из орбит и бешено вращались. Она носилась по шкафуту и кричала, словно зашедшийся в плаче ребенок. Вдруг Мурка метнулась к борту, между лееров мелькнула ее дымчатая шерстка, и стало тихо. Лишь ветер продолжал свистеть в мачтах. Мы долго стояли молча, пораженные самоубийством кошки…
Вечером шторм уже вошел в свое нормальное русло. Корабль сильно кренился, и вестовые в кают-компании влажными скатертями застелили столы, подняли на них специальные бортики, чтобы не сбрасывало на палубу посуду. Офицеры были грустны, обсуждали и все никак не могли объяснить загадочную гибель Мурки.
- В связи с этим мне вспомнился один случай, - завладел вниманием кают-компании заместитель командира корабля по политической части капитан 3 ранга Игорь Лисовский. - Это произошло в районе Бермудского треугольника. Корабль, на котором я тогда служил, выполнял там учебно-боевую задачу. Идем как-то утром после небольшого шторма. Безветрие. Легкое остаточное волнение. Видимость прекрасная. Прямо по курсу видим яхту. Поморгали ей семафором. Никакого ответа.
По радио на международном канале запросили - молчание. Сбавили ход, приблизились. Паруса на яхте спущены, двигатель не работает. На палубе - ни души. Яхта дрейфует. Старпом в мегафон покричал, пытаясь вызвать кого-нибудь наверх. Безрезультатно. Что делать? А вдруг там беда какая, людям помощь нужна? Решили баркас спустить. Вместе с аварийно-спасательной группой пошел на яхту и я. Обошли вокруг нее, позвали - никаких признаков жизни. Пришвартовались, оставили в баркасе двоих, остальные перебрались на яхту. На ходовом мостике - никого.
Штурвал не закреплен, вращается туда-сюда. На столике - вахтенный журнал. Записи сделаны на английском языке. Последняя из них - шестнадцатичасовой давности - констатирует небольшое усиление ветра. Больше ничего тревожного. Спустились в каюту. Никого нет. Судя по вещам, здесь было трое: двое мужчин и женщина. Никаких признаков, заставляющих думать о какой-либо трагедии. Казалось, обитатели каюты минуту назад вышли отсюда наверх и вот-вот появятся снова. Но мы обследовали всю яхту и никого не обнаружили.
Поразило то, что все механизмы были в полном порядке, имелся многодневный запас воды и продовольствия и, что самое странное, оставались нетронутыми надувная резиновая шлюпка и спасательные жилеты. Ими никто не воспользовался, хотя команда, теперь уже никто не сомневался в этом, несколько часов назад покинула яхту. Мы поставили яхту на якорь, связались по радио с ближайшим портом и сообщили о находке. Что с ней было дальше, не знаю.
- Случай удивительный, но при чем здесь Мурка? - недоуменно произнес кто-то.
- Уже вернувшись из похода, - словно не слыша вопроса, продолжал Лисовский, - в одном из научно-популярных журналов я прочитал гипотезу о «летучих голландцах». Суть ее в том, что в исключительно редких случаях во время шторма или накануне его возникают такие колебания волн или воздуха, которые соизмеримы по частоте с молекулярными колебаниями человеческого или иного живого организма. Происходит явление резонанса, которое губительно действует на мозг, психику.
Это проявляется в состоянии вроде бы беспричинного беспокойства, которое иногда достигает предельных для психики параметров. Некоторые животные, в первую очередь кошки, особенно остро чувствуют это. Вот почему на кораблях и судах они, как правило, не выживают. Конечно, гипотеза есть гипотеза. Но я не знаю иного объяснения ни поведению Мурки, ни вроде бы беспричинному покиданию яхты ее командой.
Слушал я Лисовского и думал о том, как много мы еще не знаем об океане и воздействии его на человека. А еще о том, что каждый океанский поход даже для очень опытных моряков - это по сути дела плавание в неизвестное.
С. Турченко, «Морские истории», 1989
1 февраля 1929 г.
Т. Билль-Белоцерковский!
Пишу с большим опозданием. Но лучше поздно, чем никогда.
1). Я считаю неправильной саму постановку вопроса о «правых» и «левых» в художественной литературе (а значит, и в театре). Понятие «правое» или «левое» в настоящее время в нашей стране есть понятие партийное, собственно – внутрипартийное. «Правые» или «левые» – это люди, отклоняющиеся в ту или иную сторону от чисто партийной линии. Странно было бы поэтому применять эти понятия к такой непартийной и несравненно более широкой области, как художественная литература, театр и пр.
Эти понятия могут быть еще применимы к тому или иному партийному (коммунистическому) кружку в художественной литературе. Внутри такого кружка могут быть «правые» и «левые». Но применять их в художественной литературе вообще, где имеются все и всякие течения, вплоть до антисоветских и прямо контрреволюционных, – значит поставить вверх дном все понятия. Вернее всего было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового порядка, или даже понятиями «советское», «антисоветское», «революционное», «антиреволюционное» и т. д.
2). Из сказанного следует, что я не могу считать «головановщину» ни «правой», ни «левой» опасностью, – она лежит за пределами партийности. «Головановщина» есть явление антисоветского порядка. Из этого, конечно, не следует, что сам Голованов не может исправиться, что он не может освободиться от своих ошибок, что его нужно преследовать и травить даже тогда, когда он готов распроститься со своими ошибками, что его надо заставить таким образом уйти за границу.
Или, например, «Бег» Булгакова, который тоже нельзя считать проявлением ни «левой», ни «правой» опасности. «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белое дело. «Бег», в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление.
Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики, изгоняя вон этих «честных» эксплуататоров, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно.
3). Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» – рыба. Легко «критиковать» и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое не есть самое хорошее.
Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путем создания могущих ее заменить настоящих, интересных, художественных пьес пролетарского характера. А соревнование – дело большое и серьезное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться формирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы. Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда.
Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?
4). Верно, что т. Свидерский сплошь и рядом допускает самые невероятные ошибки и искривления. Но верно также и то, что Репертком в своей работе допускает не меньше ошибок, хотя и в другую сторону.
Вспомните «Багровый остров», «Заговор равных» и тому подобную макулатуру, почему-то охотно пропускаемую для действительно буржуазного Камерного театра.
5). Что касается «слухов» о «либерализме», то давайте лучше не говорить об этом, – предоставьте заниматься «слухами» московским купчихам.
И. СТАЛИН
В конце 1971 года гамбургский журнал «Штерн» выступил с большим материалом в связи с изданием в ФРГ романа А. Солженицына «Август Четырнадцатого».
Восторженных «рецензий» и «анализов» появилось на Западе множество. Не остался в стороне и журнал «Штерн». Однако он не останавливается на том, чтобы констатировать антисоветскую направленность «Августа Четырнадцатого» (а подчас и солидаризироваться с ней). Редакторы гамбургского журнала задались вопросом, поставленным, кстати, и в других западных изданиях: насколько автобиографично сочинение Солженицына? Или точнее, в какой мере на этом сочинении сказались происхождение автора, его воспитание, унаследованные взгляды? И тут им удалось выяснить нечто весьма любопытное…
Впрочем, пусть об этом судит читатель, вниманию которого мы и предлагаем в сокращенном виде публикацию «Штерна».
* * *
«Это была семья грубиянов», — говорит Ирина Щербак, 82‑летняя тетка лауреата Нобелевской премии Солженицына, о его родных, некогда богатейших землевладельцах…
Семейная история Солженицына до сих пор оставалась совершенно неизвестной. В архивах значится: «Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске на Северном Кавказе, в семье учителя». Это указывает на происхождение из мещан. Но Ирина Щербак располагает более точными сведениями. Отец Солженицына, Исай, был сыном богатого землевладельца. Когда он женился в 1917 году, к его капиталу прибавился капитал жены. Он женился на Таисии, дочери крупного помещика Захара Щербака.
Мать Солженицына выросла в помещичьем доме, напоминавшем замок. Ее брат Роман сделал хорошую партию: его жена Ирина унаследовала от отца миллионное состояние. Она была самая богатая из них, и, поскольку она отдала все свои деньги мужу, тот мог изображать из себя феодала.
С грустью вспоминает Ирина свою жизнь до первой мировой войны, когда она вместе с мужем совершала длительные заграничные путешествия. В Штутгарте они побывали на заводах Даймлер и купили сигарообразную спортивную машину, на которой Роман решил принять участие в автогонках Москва — Петербург. Он уже был в то время обладателем «роллс-ройса» — во всей России их насчитывалось тогда только девять. Во время войны верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич реквизовал эту роскошную машину для личного пользования.
После возвращения в 1956 году из ссылки Солженицын навестил свою тетку Ирину в Георгиевске и целыми днями расспрашивал ее об истории их семьи. Часть рассказанного ею попала на страницы книги «Август Четырнадцатого».
Роман и Ирина жили в поместье, принадлежавшем дедушке Солженицына, которого писатель называет в своей книге не Щербак, а Токмак.
Ксения — это мать Солженицына Таисия. О ней Солженицын пишет: «Когда Ксения приезжала на каникулы домой, ее приводила в ужас атмосфера невоспитанности в семье. Однажды она привезла с собою Соню (свою подругу-еврейку), ее глазами еще острее ощутила всю эту неотесанную первобытность и чуть не сгорела от стыда». Старый Щербак избивал жену и во время спора со своим сыном Романом не раз хватался за нож.
Ирина не любила эту семью, с которой ей пришлось породниться по воле отца. «Это была семья грубиянов», — характеризует она ее в своих воспоминаниях. Она написала эти воспоминания для своего знаменитого племянника, которому не успела все рассказать во время его коротких наездов. Солженицын так и не приехал за рукописью. Поэтому она отдала ее журналу «Штерн». «Наши землевладельцы, — пишет она, — жили, как свиньи. Вино, карты, разврат, распутство…»
Родители Солженицына поженились в 1917 году на фронте, где воевал отец, тогда еще молодой офицер. В 1918 году он вернулся на свой хутор в Саблю. Однажды Ирина получила телеграмму от матери Солженицына Таисии: «Исай при смерти».
Ирина с мужем тут же приехали к ним и застали отца Солженицына смертельно раненным в больнице. Официальная версия гласила — несчастный случай на охоте, но, по-видимому, это было самоубийство. За несколько минут до смерти он сказал Ирине: «Позаботься о моем сыне. Я уверен, что у меня будет сын». Таисия была беременна на третьем месяце.
Александр Солженицын родился в доме своей тетки Ирины. Все имущество семьи было конфисковано красными. Таисия перебивалась, работая машинисткой в Ростове. Дядя Роман устроился водителем автобуса. После его смерти в 1944 году Ирина осталась без всяких средств к существованию.
Не без горечи Ирина Щербак вспоминает свою последнюю встречу с прославленным племянником. Это было в 1970 году. Солженицын пригласил тетку в Рязань и послал ей деньги на дорогу. «Когда я вышла из поезда, — рассказывает старая женщина, — я вдруг увидела, что Наташа и Саня скрылись в здании вокзала и спрятались там. В своей старой одежде я выглядела слишком убого. Они постыдились меня. Если бы у меня были деньги, я тут же уехала бы обратно. Но у меня оставалось лишь 20 копеек».
Ирина Щербак никак не согласна с тем, что Солженицын, который был исключен в 1969 году из Союза писателей СССР и с тех пор не может опубликовать в Советском Союзе ни одной строки, живет в крайней нищете. «У них хозяйство велось, как в богатой буржуазной семье, — сообщает она. (Гонорары Солженицына на Западе составили ему состояние в несколько миллионов). — Регулярно они отправлялись в Москву — в театр или кино».
Первоначально Ирина предполагала прожить в Рязани три месяца. Но уже через семнадцать дней она уехала обратно. В одном из последних писем она писала своему прославленному племяннику: «Саня, ты ко мне плохо относишься. А у меня перед глазами все еще тот мальчик, которого я так любила носить на руках».
* * *
Мы, конечно, далеки от мысли проводить прямую вульгарно-социологическую связь между происхождением человека, окружавшей его в юности обстановкой, его воспитанием — с одной стороны, и его деятельностью в зрелом возрасте — с другой.
Редакция «Литературной газеты» решила проверить факты, изложенные в «Штерне», и направила своего корреспондента в Ставропольский край. Действительно, в селе Сабля старожилы помнят богатеев Солженицыных. У деда Семена Ефимовича Солженицына в начале нынешнего века было до двух тысяч десятин земли и около 20.000 голов овец. Сам Семен Солженицын, как рассказывают те, кто у него работал, вместе с четырьмя своими сыновьями — Исаем, Василием, Константином, Ильей — и дочерью Марией жил на двух хуторах, откуда и управлял своим обширным поместьем. Крупный землевладелец, видное лицо в правлении Ростовского банка, человек крутого нрава, С. Е. Солженицын держал в послушании всю округу. Ныне от многочисленной когда-то семьи остались в живых двое: Александр Исаевич Солженицын и его двоюродная сестра Ксения Васильевна Загорина, в девичестве Солженицына, («Штерн» ошибается, считая, будто И. И. Щербак — «единственная оставшаяся в живых родственница» А. Солженицына). Ксения Васильевна живет все там же, в Сабле, работает в колхозе имени С. М. Кирова. О своей жизни она рассказывает:
— Когда умер отец, мне было шесть месяцев. Осталась круглой сиротой. После войны осталась без мужа, с ребенком на руках. Но, слава богу, все наладилось. Двоюродный брат? Нет, он ни разу не прислал мне даже весточки… Как живется ей? Ксения Васильевна — рядовая колхозница, получает в месяц до двухсот рублей.
Заметим, кстати, что корреспондент «Штерна» побывал в Сабле, ознакомился с колхозом. Однако он даже не упомянул о нем в своей корреспонденции. Впрочем, в замысел «Штерна» это, очевидно, и не входило…
«Литературная газета», 12.1.72.
«В круге последнем», Москва, 1974г.