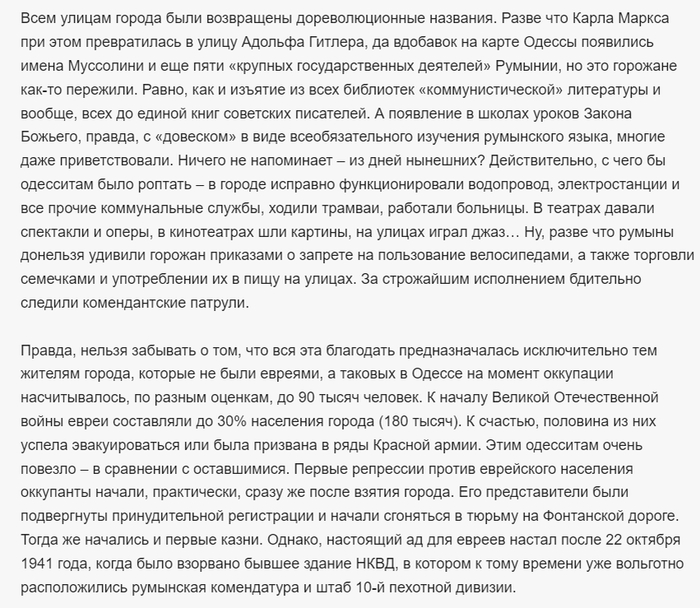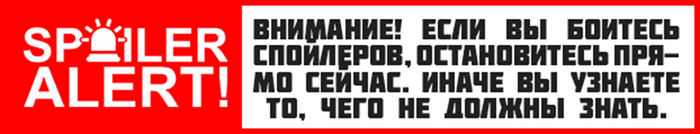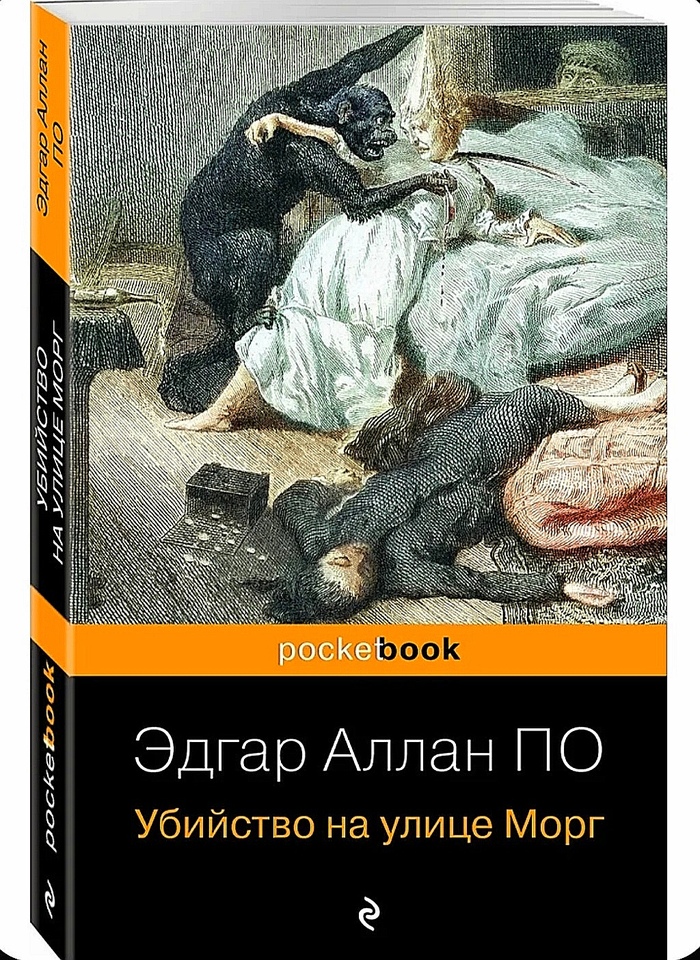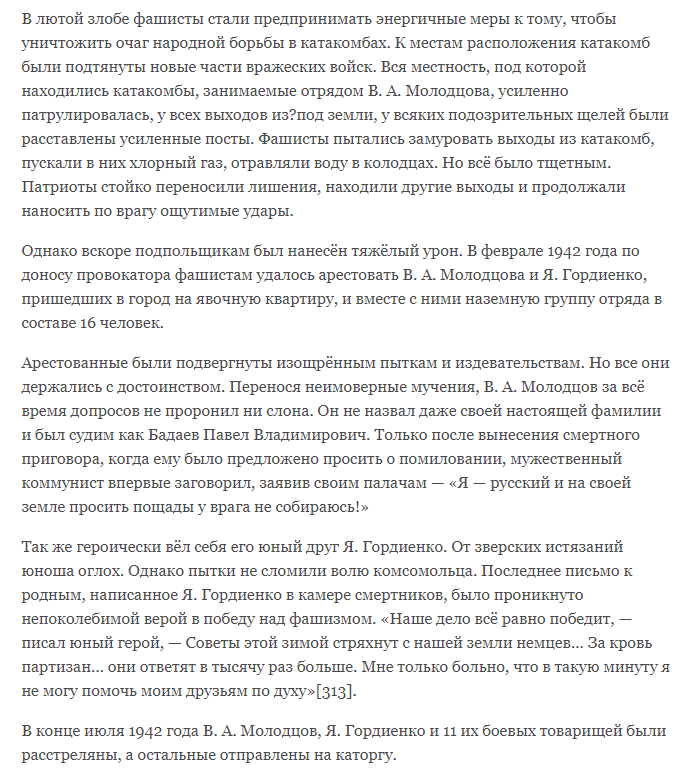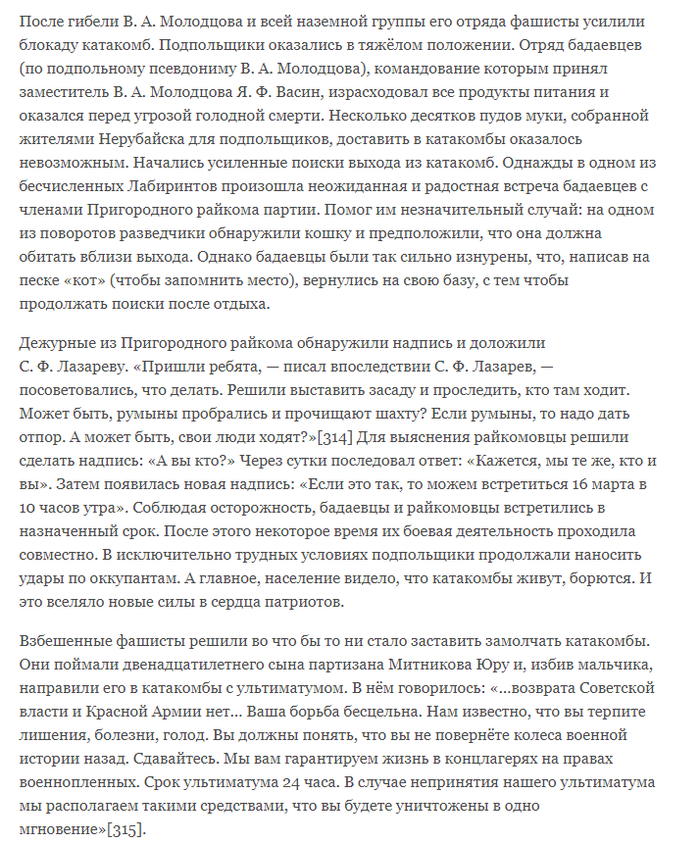"Ликвидация". Двенадцатая серия. А при румынах было "лучше"
Во время поиска врача Арсентьева, Гоцман с Тишаком находят квартиру, где пару раз видели ныне покойного Родю. Так как квартира закрыта, а ордера на обыск у него нет, то Гоцман проникает в квартиру через окно. Во время осмотра квартиры Гоцман что-то находит в секретном отделении стола и уходит из квартиры. Одна из версий - Гоцман видит удостоверения с вклеенной фотографией Кречетова? Поэтому тихо уходит из квартиры не поднимая шума, окончательно уверенный в своей версии. После осмотра квартиры Гоцман отправляет Тишака в Херсон, в поисках информации насчет Арсентьева.
Довжик ведет опрос потерпевшей, заходит Кречетов в поисках Гоцмана. Ну а Гоцман тем временем находится дома. Между Гоцмоном и дядей Ештой происходит разговор, в ходе которого дядя Ешта говорит, что при румынах было лучше. Ну что, попробуем разобрать, на самом ли деле при румынах дескать было лучше. Мне попадалось в интернете несколько статей, где некоторые люди без приведения хоть каких то источников информации писали как замечательно жилось одесситам во время румынской оккупации. Есть например на Яндекс -дзене такой канал "Репортер", на котором есть например статья под названием «При румынах было лучше»: горькая правда оккупации Одессы, приведу некоторые выдержки оттуда.
Правда тут есть несколько вопросов. Откуда такая информация? Какие очевидцы восхищались продуктовым изобилием в Одессе во время оккупации? Где воспоминания этих очевидцев можно почитать? Какие источники использовал автор статьи при написании своего опуса? Каким одесситам вернули их так называемую собственность, которую у них отобрали при советской власти? Кому именно жилось в окупированной Одессе лучше? Почему автор статьи не огласил ,сколько было жителей до прихода румын(причем с немцами, а не чисто румын) и сколько осталось людей в городе после того как румын из города прогнали?
Так к слову, я нашел еще несколько похожих статей с похожим на все сто процентов содержанием, на разных ресурсах, в том числе и на одном украинском портале, при этом автором статьи значится Мария Гудыма, в качестве "эксперта" там выступает один украинский ысторик Александр Черкасов. Хотя другие историки утверждают обратное.
Миф о том, что при румынах было лучше, появился не сразу. И под собой он имел только то, что, если пережил оккупацию, значит, уже хорошо. Но при румынах город был "зачищен". Репрессии против мирного населения Одессы начались на следующий день после того, как румынские войска вошли в Одессу. Это по поводу того, что закрыть склад и его сжечь. А потом те, кто пытается выбежать, их из стрелкового оружия – положить. Это классическое уничтожение, классический геноцид", – отметил Константин Залесский, историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.
22 октября 1941 года Одессу потряс взрыв чудовищной силы. В воздух взлетело бывшее здание НКВД, заминированное советскими войсками при отступлении из города. Именно в нем румыны разместили свою комендатуру и штаб 10-й пехотной дивизии. Под завалами оказались 135 румынских и немецких военнослужащих. 79 из них погибли. Среди убитых оказался и военный комендант Одессы, командир 10-й дивизии генерал Глогоджану.
На следующий день после взрыва диктатор Антонеску приказал уничтожить за каждого погибшего офицера 200 заложников из числа местных жителей, за каждого солдата – 100. После этого в городе началась кровавая вакханалия.
"В течение трех-четырех дней были уничтожены от 5 до 10 тысяч человек. По улице, на которой стояло здание НКВД, просто шел отряд, врывался в квартиры и убивал там всех. На Александровском проспекте просто вешали на столбах. Очевидцы рассказывали, что там были повешены около 400 человек одновременно", – сказал Константин Залесский.
Ладно, возвращаемся к сериалу. Дядя Ешта, который тикает с городу, пока не пришел пушной зверек, предрекает Гоцману, что скоро начнут стрелять людей Гоцмана, а его самого вызовут в кабинет и пустят в расход. Эмик предлагает Гоцману одну махинацию с квартирой, дескать хозяев нет, где они неизвестно, одна дама мается с детьми в маленькой комнате и хочет ту квартирку заполучить. Гоцман предложение Эмика отвергает, причем категорически, говорит что такими делами занимается ОБХСС.
Тем временем Виктор Платов встречается со Штехелем и говорит, что он приехал из Киева, по заданию какого то центра и хочет встретиться с Академиком. Штехель назначает встречу на следующий день в катране, после чего уходит.
Гоцман встречается с Чусовым, и излагает ему свой хитрый план, так же требует прекратить отстрел бандитов в городе Одессе. Полковник Чусов обещает изложить план Гоцмана самому маршалу Жукову. Кречетов гуляет по городу, за ним хвостом ходит племянник Штехеля, который потом все что видел пересказывает дяде. Среди ночи, Гоцман вздумал сочетаться браком с Норой, но так как все загсы закрыты, он идет к своему начальнику, что бы он как командир их с Норой расписал.
Обалдевший от такой просьбы начальник сначала отказывает, но после того как Гоцман устраивает истерику и грозит уволиться, достает бутылку водки , три стакана, дает согласие расписать Давида с Норой .
Тем временем, полковник Чусов излагает маршалу Жукову, план который придумал Давид Гоцман. Инвалид убивают одного из гангстеров ради мести за убитого сына бандита. Ночью на берегу моря Академик встречается со Штехелем, нам ясно дают понять, что все время немецким агентом "Академиком" был помощник военного прокурора Кречетов.
Кречетов делится со Штехелем мыслями что он провалился и Гоцман находится у него на хвосте. Тут же мы выясняем, что исчезновение Арсенина дело рук Академика и Штехеля. На случай если с Кречетовым что то случится, он отдает Штехелю приказ убить Гоцмана, Нору и Мишку Карася. Так же Академик приказывает Штехелю убить племянника, так как он слишком много знает. Отдав распоряжение всем лечь на дно, Академик уходит. Гоцман же лично арестовывает хромого инвалида убившего ради мести гангстера.
Штехель лично собирает своего племянника в дальнюю дорогу, сопровождать его будет Толя Живчик, которому и приказано убить племянника. Виктор Платов проходит еще одну проверку, два человека представляются как сотрудники контрразведки, показывают удостоверения, Платов их убивает. Странная проверка - если то, что Платов положил проверяющих, было неправильным поступком, то какого же поведения от него ожидали?
Он по легенде из Центра, Штехель это знает. К нему приходят контрразведчики. Если он засланный, он должен сказать "Ребята, спокойно, я тоже контрразведчик", а если не засланный? Всё отрицать, прикинуться обычным шулером и ждать пока его отпустят? С другой стороны, если он засланный, то он как раз и знает, кто настоящий контрразведчик, а кто нет. Но тем не менее, начинается большая игра. Чусов арестовывает Гоцмана на глазах у Кречетова. Окончание следует....
Если вам понравилась статья, ставьте лайк, это продвигает канал, так же пишете комментарии, да и на канал подписываться не забывайте.
Чёрных нужно было уничтожить, чтобы люди могли жить спокойно
Ситуация с чёрными вызывает много споров, хотя по самой своей сути они враждебны людям и мириться с их действиями было никак нельзя. Это дикие, лживые, злобные твари.
Именно такими чёрных описал Дмитрий Глуховский в книге "Метро 2033".
Меня удивляет сам факт споров по поводу финала книги. Сухие факты про чёрных:
- они массово убивали людей и зачистили целые станции. Обращаю внимание, убивали людей. Целенаправленно, жестоко, цинично;
- в самом начале книги чёрные появляются с группами мутантов не в первый раз, они несут смерть, используя мутантов как таран, хотя могли в любой момент мутантов остановить или уничтожить;
- они могли не использовать псисилы при контакте с людьми, но они не просто их использовали, а на всю катушку, потому что так они в полной безопасности убивали людей, и т.д.
Чёрных было слишком мало и они не были дураками, поэтому им нужен был "крот" среди людей и гражданская война, в которой люди перебьют друг друга. Таким "кротом" должен был стать главный герой и некоторые другие люди, которым внушалось, что "чёрные пришли с миром".
Проблемой внушения был ограниченный радиус псивоздействия и смерти людей, на которых оно оказывалось.
Прямое противостояние с людьми чёрные не вытянули бы ни с псисилами, ни с мутантами: людей было на порядки больше и люди были хорошо вооружены.
Чёрные уничтожили много станций, но на периферии и скрытно. Более крупные станции они уничтожали уже не лично, а истощая волнами мутантов. Даже в прямом противостоянии с одной крупной станцией им было не выжить и они это понимали, скрываясь в тенях.
О каком "миролюбии" речь, когда их деятельность описана на первых страницах книги? Там, где написано про то, как пропадали без выстрелов разведчики и пали несколько станций.
Первой задачей чёрных было проникнуть в метро, для этого им нужен был кто-то, кто откроет гермоворота изнутри. Таким человеком стал подвергнутый внушению ребёнок - главный герой Артём. Взрослые просто не переносили воздействие.
Ещё до вторжения чёрные оказывали негативное воздействие на людей, вызывая у них страх и боль, вынуждая бежать. Так расчищался плацдарм для вторжения.
Чёрные стремились захватить метро и поселиться в нём.
Сначала они изгнали людей, потом открыли ворота, потом уничтожили людей на нескольких станциях и начали шаг за шагом продвигаться по веткам.
Всё это описано в книге, какие могут быть "неоднозначности" на основе всего одного лживого псипослания, призванного спасти их шкуры от уничтожения, которое запоздало? Попытка изобразить их поведение чем-то другим, противоречит всем событиям, описанным в книге.
Чёрные хотели поселиться в метро, потому что поверхность слишком опасна и для них. В Москве обитало большое количество мутантов намного сильнее чёрных. По той же причине они не обошли метро с других сторон - это было самоубийством.
В метро безопасно, его легко защищать и там много ресурсов, необходимых для выживания, только люди мешали.
А довоенное оружие, которое люди "припасли на чёрный день", вызывало у чёрных ужас. Поэтому с экспансией они не спешили, действуя осторожно.
И ведь у них почти получилось.
Люди не консолидируются против невидимого врага, им нужен конкретный.
Без помощи пикабушников не протянуть: https://pay.cloudtips.ru/p/4c9b63bf
Несколько слов про «Нежность» | La ternura (2023)
История моего знакомства с этим фильмом ровно такая же как и с фильмом «Вышка». А вот впечатления от него совсем другие – ощущение того, что авторы придумали идею, но не смогли её реализовать на достойном уровне.
Изначально «Нежность» — это пьеса испанского драматурга Альфредо Санзола, премьера которой состоялась в апреле 2017 года в Мадриде. К несчастью, я не нашёл ни полного текста пьесы, ни записи выступлений, а потому о соответствии фильма и пьесы пришлось судить лишь по отрывкам и по отзывам о пьесе. Благо, судя по найденной информации, фильм дословно адаптирует пьесу.
Сюжет
Действие разворачивается в средних веках. Король Филипп II отправляет королеву Эсмеральду и её двух дочерей: принцессу Салмон и принцессу Руби, вместе с Непобедимой армадой в Англию (да, тут у нас исторические декорации). Девушки должны вступить в брак с местными дворянами. Это не нравится Эсмеральде, она ненавидит мужчин – они угнетали её всю свою жизнь и ни разу не проявляли заботу. Королева желает другой судьбы своим дочерям, и поэтому, когда они приближаются к английским берегам, она использует магию, чтобы вызвать бурю, в результате которой флот тонет, а сама королева и её дочери попадают на безлюдный, по их мнению, остров. Эсмеральда хочет поселиться там и жить вдали от мужчин.
Однако выясняется, что там уже 20 лет живёт лесоруб Марун и два его сына Вердемар и Азульсиело, которые сбежали от цивилизации, чтобы избежать женщин, которых отец и старший из сыновей считают вредными и опасными существами (младший сын женщин не видел и знает о них лишь из рассказов отца и брата, которые рисуют образы похлеще лавкрафтовских ужасов). Эсмеральда, Салмон и Рубин решают замаскироваться под солдат военно-морского флота, переживших катастрофу, чтобы жители острова, которых они считают опасными женоненавистниками, не отказали им в помощи.
Эсмеральда уверена, что у Маруна есть способ убраться с острова, и она пытается выведать у него информацию о нём. И естественно, в череде забавных и неловких ситуаций раскрывается, что «солдаты» — это девушки, и между ними и сыновьями Маруна возникают взаимные чувства. Однако родителям такая ситуация явно не понравится, и молодёжь пытается скрыть от них это.
Однако старшая дочь, сама того не зная, признаётся во всём матери, которая с помощью магии приняла вид одного из парней, чтобы Марун рассказал ей про способ покинуть остров (такой действительно был – он разобрал лодку, на которой они прибыли на остров, и спрятал).
Мать пытается вразумить дочерей, но в результате на шум приходят все жители острова, и тайное становится явным. Дети, которые уже прониклись друг к другу чувствами (а в отношении младшего сына Маруна так ещё и осознавшими, что всю жизнь ему врали), решают остаться вместе и покидают родителей.
Эсмеральда и Марун на этом фоне решают дружно рассорить отпрысков, так как не готовы отпустить свои обиды (тот факт, что они стали работать вместе, их не смущает), и Эсмеральда использует магию, чтобы рассорить пары, но всё идёт наперекосяк, и каждый житель острова оказывается приворожённым к случайному другому.
В конечном итоге любовь побеждает, две пары молодых людей покидают остров (с помощью телепортации, зачем Эсмеральде вообще нужен был корабль Маруна?), на котором остаются Эсмеральда и Марун, которые тоже уже не столь категоричны в своих предрассудках, и кто знает, как сложатся их отношения.
Разбор
Картинка. Разбирать всё это отдельно было бы странно, так что скажу в общем: декорации, локации, костюмы, цветокоррекция – неплохи. Фильм выглядит если не красиво, то достойно.
Идея. С одной стороны, в идее «борьбы полов» нет ничего инновационного, но данная концепция (закрыть в одной локации группу женщин, недолюбливающих мужчин, и группу мужчин, избегающих женщин) для романтической комедии даёт огромный потенциал. Но вот то, как его реализуют, зависит от сюжета.
Сюжет и сценарий. Слабоват. Складывается ощущение, что авторы не смогли реализовать потенциал, который был в первоначальной идее.
1. Реально смешных или забавных моментов единицы, и те зачастую настолько затянуты, что перестают быть смешными и становятся раздражающими (финальное помешательство – тому пример).
2. Есть стойкое ощущение, что авторы фильма не совсем понимали, что хотят от своего фильма. Так, один из жанров фильма – «фэнтези», и он проявляется… почти никак (вы об этом вспомните три раза за весь фильм – самое начало, обращение Эсмеральды в одного из сыновей и финал). Этот жанр и его элементы просто не нужны этому фильму.
3. Дыры. Ладно, то, что девушки вечно путают бороды и усы и никто этого не замечает – это шутка, а вот то, что им не нужна лодка, чтобы покинуть остров – не шутка, а косяк.
4. Для того чтобы сюжет случился, герои часто становятся конченными идиотами. Особенно младший сын Маруна.
Театральщина. Фильм сохранил огромное количество театральщины (в прямом смысле). Актёрская игра больше похожа на театральную, чем на киношную, с гипертрофированными эмоциями. Есть реплики в зал, то есть в камеру. Сцены как будто замкнуты, а локации камерные. Это не плохо, просто специфично.
Итог
Этот фильм — пример того, как авторы, с одной стороны, не дожали основную идею (вводные позволяли накинуть раз в 5 больше юмора), а с другой — напихали лишнего (жанр фэнтези не только не нужен, он ещё и ломает историю, давая героям другой, более разумный способ решения каждой из проблем).
Фильм не вызывает ощущение зря потраченного времени, но и рекомендовать его посмотреть я не могу.
Вампирское [Смотреть со звуком]
ЗЫ Fujimoto Tatsuki 17-26
ЗЫЫ Тацуки Фудзимото: С семнадцати до двадцати шести
Фильм «Федя. Народный футболист». Виват король, виват
Год 2001.
- Андрей, нам вчера футболиста привезли, вся больница на ушах и палата в цветах - услышал я утром от коллеги по работе, которая подрабатывала в больнице- попытка суицида. Кажется Черенков фамилия
В этот момент моё красно-белое сердце забилось с бешеной силой!
Именно из-за этих трагических моментов в судьбе великого игрока я боялся смотреть фильм «Федя. Народный футболист». Но посмотрев, остался в полном восторге! Сейчас расскажу, что меня поразило больше всего!
Спартак Москва.
Фильм делиться на несколько глав. Одна из них посвящена становлению игрока в команде Спартак Москва. Но самое главное, что бросается в глаза это игроки той команды, которые показаны простыми молодыми ребятами способные на ребячества присущие их возрасту. Сбитый испанский лётчик, украсть ради свидания костюм, организовать ресторан, а самое главное прикрыть товарища. Этакие мушкетёры: один за всех и все за одного!
Единственный кто выпадает из этого дружного ансамбля- Бубнов. Обратите внимание, он даже в электричке сидит один. Где то читал, что он был ушами и глазами Бескова в команде и постоянно ему всё доносил. В фильме это очень хорошо отраженно.
Сборная.
34 матча и 12 мячей за сборную СССР. Не плохой результат для 80-х годов прошлого века, где сборные не играли так часто! Но вся трагедия Черенкова в том, что он не провёл ни одной минуты на Чемпионатах Мира и Европы.
Столкновение двух стилей игры того времени: Лобановского и Беского не позволили ему сыграть на Чемпионате мира 1986 года. Можно сколько угодно говорить о его болезни, не позволившей ему выдержать нагрузки Лобановского на сборах, но факт остается фактом: футболист не подходил под его стиль игры! Стеночки, пяточки, короткий пас- это не про тренера Лобановского.
Болезнь Черенкова.
Вот здесь огромное спасибо всем: сценаристам, режиссеру, актёру, за то, что смогли показать Черенкова человеком, не выдержавшим эмоциональный груз, а не психом с комплексами. Одна трагедия за одной, запредельные нагрузки в спорте, ответственность за результат и человек не выдерживает психологически.
Как ни странно, но то, что его «убивало», его и лечило. Мяч, поле, пас, гол. Он этим жил. И его семья это понимала.
Семья
- ты видишь этот календарь? Это дни когда ты был дома!
Трудно сейчас представить, но в то время помимо долгих предсезонных сборов в команде, игроков могли "закрыть" на базе за 3-7 дней до календарной игры. А ещё матчи за сборную!
Помню как Олег Романцев рассказывал:
- нам квартиру от клуба дали. Мы с женой зашли, я вещи у порога оставил и уехал на сборы. Она осталась одна.
Вот так и жили!
Как сказала жена Самедова после успешного домашнего чемпионата мира:
- быть женой футболиста, это постоянно его делить с футболом и подстраиваться под него!
Супруга Черенкова это поняла и сделала всё, что бы он вернулся в команду. И он вернулся!
Прощальный матч Спартак-Парма (Италия).
Последний официальный матч за Спартак Черенков сыграл в возрасте 34 лет 105 дней — 7 ноября 1993 года против «Ростсельмаша» (3:0 дома). Футболом я заразился во время Чемпионата мира в 1994 году. Именно, по этому его игру я видел 1 раз, но фразу комментатора того матча запомнил на всю жизнь:
- ещё один великолепный пас от Феди, жаль, что нынешние игроки Спартака не понимают его тонкой игры.
23 августа 1994 года. Москва. Стадион «Динамо». 35 000 зрителей.
Соперник блиставшая тогда итальянская "Парма"- финалистов Кубка Кубков и обладателей Суперкубка Италии. Итальянские футболисты были в шоке, что полный стадион "Динамо" собрался не ради них: чемпиона мира Дино Баджо, Аполлони, Бенарриво, Дзола, Буччи и Минотти, а также шведа Брулина – бронзового призера мирового первенства, а всё из-за 1 игрока соперника!
В тот вечер Черенков играл в свой футбол – пасы пяточкой, стеночки, изящные обводочки.
А потом была песня Тамары Гвердцители: «Прощай, король! Виват, король! Ты был самим собой. Ты так играл, ты был артист…». Он уходил. Но в Спартаке уже появилась новая звезда.
- мальчик как тебя зовут?- спрашивает в конце фильма Старостин у мальчишки во дворе
- меня зовут Егор!
Новая звезда Спартака не затмит Черенкова, но будет так же ярко блистать на поле, забивать Мадридскому Реалу, выводить команду в полуфинал Кубка УЕФА и брать трофеи! К сожалению после Егора Титова, новых своих ярких игроков, способных на долгие годы стать лидером и двигателем в Спартаке не появилось….
первоисточник: https://dzen.ru/a/aRr-68QfaV04Q-H3
"Ликвидация". Одиннадцатая серия. Как Чекан сбежал опять
.Приходит Гоцман в управление, а там уже стоит толпа гангстеров, допроса ждут. Майор Довжик сообщает Гоцману, что врач Арсентьев выбыл в неизвестном направлении, а Якименко говорит что его ищет Кречетов. И вот, Ида ведет Гоцмана и Кречетова, в компании солдат, к месту где якобы спрятано оружие. Они все вместе заходят в какие то развалины, где их уже поджидает засада. В ходе развязавшегося боя гибнет несколько солдат, Ида из под стражи сбегает и в который уже раз благодаря сценарным костылям от возмездия уходит неуловимый Джо.
При этом, во время боя, героически погибает Васька Соболь, закрыв своим телом готовую разорваться гранату, которую под ноги Давида Марковича бросил Чекан. Хороший человек погиб, а мразь последняя, благодаря сценаристам в седьмой раз сбежала.
У Гоцмана с женой режиссера этой картины все хорошо и они уже живут вместе. Вместо Василия Соболя, у Давида Гоцмана появляется новый водитель, младший сержант Костюченко. Новый водитель также служил на 2-м Белорусском и слыхал за интенданта Шанина. У Гоцмана все подозрения сходятся против Кречетова. Давид Маркович посылает Леню Тишака расследовать, что случилось с Арсениным. Затем Гоцман просит у своего начальника, узнать через родственника, который тоже на 2-м Белорусском фронте служил, находился ли там Кречетов в качестве следователя или нет.
Гоцман идет арестовывать Кречетова, по пути Кречетов смывается и заходит в ресторан, Гоцману приходится идти вслед за ним. Кречетов начинает разговор сам и выкладывает все аргументы Гоцмана против себя, насчет убийства Фимы и Роди а так же насчёт Чекана. Потом выдает секретную информацию о том, что он не служил на 2-м Белорусском, а был в одесском подполье с 1941 по 1944 год. Приведу некоторые выдержки из книги "Герои подполья. О борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны", которые касаются деятельности Одесского подполья.
Это я к тому, что о деятельности одесского подполья вовремя войны было известно, ничего секретного тут не было, но ладно возвращаемся к сериалу. В свою очередь Кречетов говорит, что у него есть подозрение, что Академик - это Гоцман. Дескать кто Родю в шкаф засунул вместо того что бы в камеру отправить? Гоцман. Кто Иде дал день на размышление вместо того что бы её колоть? Опять Гоцман. На все обвинения Кречетова, Гоцман отвечает в стиле Хабенскорго из фильма "Собибор", он хочет снять штаны и показать Кречетову свой обрезанный прибор. На это Кречетов замечает, что вообще то в Абвере не идиоты сидели, им на идеологию типа было глубоко плевать, могли и еврея взять и завербовать. Ну вообще то для фашистов идеология и расовая теория была на первом месте, хотя известен тот факт что в Вермахте во время войны служили люди имевшие еврейские корни.
Термином "мишлинге" в рейхе называли людей, родившихся от смешанных браков арийцев с не арийцами. Расовые законы 1935 г. различали "мишлинге" первой степени (один из родителей - еврей) и второй степени (бабушка или дедушка - евреи). Несмотря на юридическую "подпорченность" людей с еврейскими генами и невзирая на трескучую пропаганду, десятки тысяч "мишлинге" преспокойно жили при нацистах. Они обычным порядком призывались в вермахт, люфтваффе и кригсмарине, становясь не только солдатами, но и частью генералитета на уровне командующих полками, дивизиями и армиями.
Сотни "мишлинге" были награждены за храбрость Железными крестами. Двадцать солдат и офицеров еврейского происхождения были удостоены высшей военной награды Третьего рейха - Рыцарского креста. Впрочем, многие ветераны вермахта жаловались, что начальство неохотно представляло к орденам и тянуло с продвижением в чине, памятуя об их еврейских предках.
Долгое время нацистская пресса помещала фотографию голубоглазого блондина в каске. Под снимком значилось: "Идеальный немецкий солдат". Этим арийским идеалом был боец вермахта Вернер Голдберг (с папой-евреем).
Майор вермахта Роберт Борхардт получил Рыцарский крест за танковый прорыв советского фронта в августе 1941 г. Затем он был направлен в Африканский корпус Роммеля. Под Эль-Аламейном попал в плен к англичанам. В 1944 г. ему разрешили приехать в Англию для воссоединения с отцом-евреем. В 1946 г. Борхардт вернулся в Германию, заявив своему еврейскому папе: "Кто-то же должен отстраивать нашу страну". В 1983 г. незадолго до смерти он рассказывал немецким школьникам: "Многие евреи и полуевреи, воевавшие за Германию во Вторую мировую, считали, что они должны честно защищать свой фатерланд, служа в армии".
Полковник Вальтер Холландер, чья мать была еврейкой, получил личную грамоту Гитлера, в которой фюрер удостоверял арийство этого галахического еврея (Галаха - традиционное еврейское законодательство, в соответствии с которым евреем считается рожденный от матери еврейки. - К.К.). Такие же удостоверения о "немецкой крови" были подписаны Гитлером для десятков высокопоставленных офицеров еврейского происхождения.
Помимо германских евреев, служивших в Вермахте, были и те евреи, которые охраняли еврейские гетто, а потом вместе с немцами, литовцами и латышами уничтожали своих же собратьев. Причём, выслуживаясь перед немцами, проявляли к евреям ещё большую жестокость, чем ... прибалты. В отличие от обычных полицаев, полицаи-евреи не получали ни пайка, ни жалования, и потому единственными способами прокормиться были грабёж и вымогательство. Это как в том анекдоте – дали пистолет, крутись как хочешь. Правда, пистолеты рядовым полицаям не выдавали – их имели лишь начальники отрядов и коменданты. Винтовки же полицейским выдавали лишь на время расстрелов.
Отряды еврейской полиции были довольно крупными. В Варшавском гетто еврейская полиция насчитывала около 2500 человек; в гетто города Лодзь – 1200; во Львове до 500 человек; в Вильнюсе до 250 человек. Ну это так, лирика, возвращаемся к просмотру сериала.
Далее, уже находясь в УГРО, Кречетиов переводит разговор на Арсенина и поддерживает версию, что главный злодей - Арсенин, а Академика вообще не существует. Один из аргументов - Кречетов запомнил узел на шее Роде и это самурайский узел. Раздав указания подчинённым Гоцман идет домой. Вернувшись домой, Гоцман для вида открывает окно, делает вид что раздевается, а затем скрючивается в три погибели, и незаметно тайными тропами идет к Чусову и задает вопрос, правда ли что Кречетов был в одесском подполье. Чусов это подтверждает.
Очень странно, что факт причастности Кречетова к одесскому подполью так радует Гоцмана. Ведь подозреваемых три - он, Кречетов и Арсенин. Так он точно знает про себя и знает, что Академиком не может быть Арсенин, то в любом случае остается Кречетов. Одесское подполье только указывает на близость Кречетова к школе Абвера. Радость оказывается весьма краткосрочна и Гоцман сам понимает, что это ничего не меняет, берет рассказывает Чусову свои подозрения насчет Кречетова.
Прошло столько времени, после того самого боя, и только сейчас Чекан приперся домой к Штехелю где находится наводчица Ида. Нам демонстрируют типа семейную идиллию, Ида, как заботливая жена кормит Чекана борщом, как главу семейства только что вернувшегося с работы. Ага только во время свой "работы", этот упырь убил несколько человек, а теперь сидит себе спокойно и борщ лопает а Ида на него влюбленными глазами смотрит. Ида предлагает Чекану тикать с городу, но тот говорит что никуда уехать не получится, так как он честный вор и дал Академику слово, что будет ему и дальше помогать если удастся спасти из лап милиции Иду.
Гоцман приходит в управление, а у Якименко натуральная запарка, Довжика нет, Тишак отсутствует, а там еще целую кучу гангстеров привели. Один из сотрудников увольняется из органов, у него убили брата бандита, а отец сказал если он из органов не уволится то его проклянет. Я что то не понял, жители Одессы делятся на две категории что ли? Одна категория это бандиты всех мастей. Вторая категория это сотрудники разных правоохранительных органов. Гоцман говорит что он найдут убийцу брата, на это сотрудник говорит, что и искать не надо, убийцу с новой партией гангстеров вторично уже за последние пару дней привели.
Сидит значит начальник уголовного розыска с пионерами разговаривает, открывается дверь и Гоцман в кабинет начальника вталкивает группу задержанных гангстеров, дескать сам велишь их всех отпускать, вот сам бери и допрашивай а у меня людей свободных нету. Дальше, по улицам Одессы, идет вереница похоронных процессий, хоронят расстрелянных "гангстерами" бандюков. Звучит печальная музыка, люди причитают и заламывают руки, ну а мне почему то этих бандитов не жалко, особенно если вспомнить что творили такие бандиты в 90 годы. Гоцман сидя в машине наблюдает за этой похоронной процессией. К нему подбегает один инвалид и говорит что он Гоцману больше руки не протянет.