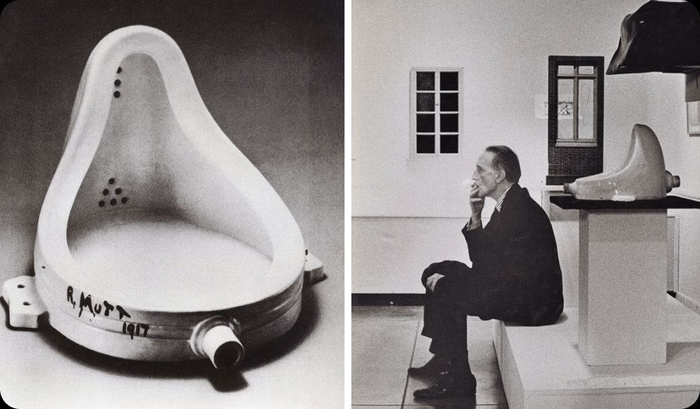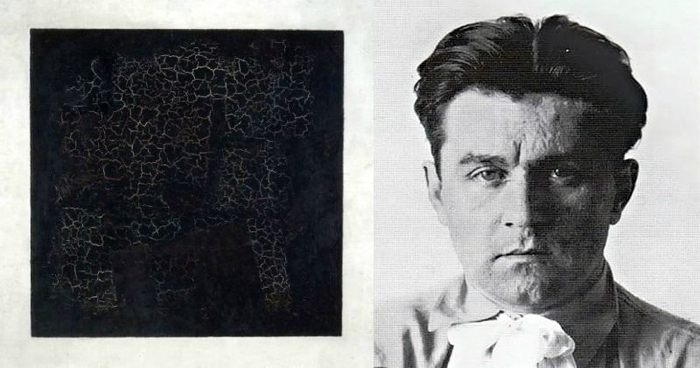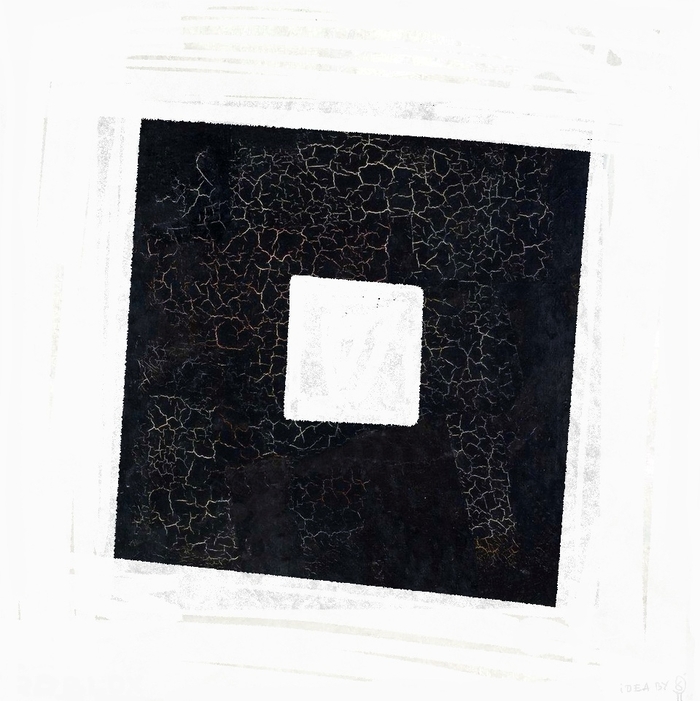Вечный полдень застыл над Мёртвой Точкой. Солнце, лишенное лучей, висело на небесной привязи, как выцветший баллон, и не столько светило, сколько пылило матовым, безжизненным светом. Воздух был густ, неподвижен и на вкус - как молотый гипс.
Перед Якубом возвышается Постамент. Не дворец, не мавзолей, а длинное, уходящее в бесконечность бетонное корыто, заставленное такими же безликими сосудами. Это не кладбище, а архив душ, чьи дела закрыты навеки.
Из будки, слепленной из шлакоблоков и обрывков кровельного железа, выходит Смотритель. На нем промасленная телогрейка под цвет пыли, а на лице - выражение легкой, профессиональной скуки хирурга, видящего тысячную гангрену. Он здесь не хозяин, а механик на вечном дежурстве.
Якуб останавливается, переводит дух - вполсилы, как и положено, - и протягивает урну.
- Я пришел за видом на Жительство, - говорит он.
Смотритель берет урну с ловкостью фасовщика, взвешивает на руке.
- Легкая. Недостаточно битых надежд, - констатирует он безразлично, - или прах слишком хорошо просеян. Имя?
- У нас нет имен, - отвечает Якуб, - я прочел Уложение.
- А, неофит, - по губам Смотрителя проползает едва заметная ухмылка. Он ставит урну на стойку, будто регистрируя бага, - ты ошибся дверью. Это не райский сад, это - филиал. Отдел регистрации окончательных возвратов, ты понял? Ты вернул то, что взял в долг, костяк и плоть. Проценты по нему - твои воспоминания - мы не принимаем, они испарятся сами.
Якуб молчит, глядя на бесконечный ряд урн.
- Ты думаешь, это священнодействие? - Смотритель достает из кармана пачку дешевых сигарет, прикуривает. У дыма нет запаха, - ты думаешь, ты принес в жертву свое прошлое? Я тебя разочарую, ты просто сдал багаж. Теперь ты свободен от собственности и от тебя самого, поздравляю.
- Здесь обещан покой, - тихо говорит Якуб, - прекращение пути.
- Покой? - Смотритель фыркает, - ты называешь покоем состояние консервной банки до того, как её вскроют? Покой - это для живых, ты же теперь - официально никто, ты - формальность. Ты достиг Мёртвой Точки, молодец. Двигатель заклинило и теперь он будет так стоять, пока не рассыплется в ржавую пыль. Это и есть твой вид на Жительство. Вид на не-жизнь.
Он берет урну и ведет Якуба вдоль бетонного корыта, отыскивая свободное место.
- Ты веришь, что этот прах был кем-то? Матерью? Возлюбленной? Богом? – говорит Смотритель, не оборачиваясь, – Заблуждение, это просто пепел, продукт горения. Единственная истина, которую ты здесь найдешь, - это то, что никакой истины нет. Ты хотел прийти к концу, так вот он, поздравляю, ты достиг дна. А теперь посмотри вниз, видишь? А там - другое дно, и так до бесконечности.
Смотритель находит пустой квадрат бетона и привычным, отработанным жестом ставит урну.
- Всё. Актом сего возложения ты освобождаешься от бремени прошлого и будущего. Ты больше не кочевник, ты - статист. Дыши вполсилы, не привлекай внимания. Помни: у нас даже гимн — это трек номер ноль: тишина, возвращение без обязательств.
Смотритель поворачивается к Якубу спиной и идет к своей будке.
Якуб остается один перед новой урной, встроенной в бесконечный ряд таких же. Он пытается ощутить освобождение, покой, пустоту. Но не ощущает ничего, кроме все той же тяжести в груди, той самой, что была у него в пути. Только теперь он понимает, что это не тяжесть утраты, а тяжесть криво сросшихся ребер после неудачного перелома, которые не дают ему сделать полный вдох. Навсегда.
Он обрел свой вид на Жительство. Вид на вечную, беззвучную, бесписьменную Остановку. И понял, что Смотритель прав. Это и было самое страшное.
Так как письменности не было, никто не знал, как возник Внутренний Элевсин. Возможно, это была насмешка Пустоты над самой собой, но человек слаб и ему всегда нужно имя, которое можно вспоминать между четырьмя и пятью часами в самый рассвет сумерок. Не придумав ничего нового, Элевсин сам назвал себя Элевсином, украв у древних греков саму возможность обрести бессмертие и избавиться от страха смерти. Внутренний Элевсин стал ее тенью, вывернув наизнанку последнюю святыню смертного.
Все дело в том, что Элевсинская Анархия это всего лишь не-государство Мёртвой точки. Официального названия у него нет. В дипломатических документах, которых не существует, используется лишь кодовое обозначение 111 Единственным ритуалом этого города-государства стало возложение урн на Постамент, подтверждающее окончательную духовную смерть. Это не возрождение, а консервация в состоянии «не-жизни» и «не-смерти». Это вид на жительство для тех, кто уже умер внутри. Это единственное таинство мертвой точки кочевников, о котором не говорят, просто потому, что и говорить то не о чем.
Во внутреннем Элевсине правит пост-номадическая стагнатократия. Атеистическая, пост-номадическая эпоха - это не исторический период, а экзистенциальное состояние части человечества, достигшее своего логического, безнадежного предела. Боги умерли, и никто не пришел на их похороны. Здесь атеизм - это не просто неверие в богов. Это более глубокая, фундаментальная пустота.
Метанарративы исчерпаны. Рухнули не только старые религии, но и все светские замены: вера в прогресс, в светлое будущее, в революцию, в смысл истории. Не осталось ни Больших Идей, ради которых стоит жить, ни загробных царств, ради которых стоит умирать.
Транценденция кончилась: нет больше Вертикали. Некуда стремиться, некому молиться, нечего искать. Мир стал плоским, одноразовым и лишенным тайны. Даже Пустота устала от своего бессмысленного величия.
Последняя инстанция отсутствует, не перед кем держать ответ. Не у кого просить прощения или милости. Смерть становится не переходом, а техническим окончанием работы системы. Именно поэтому во Внутреннем Элевсине ритуал возложения урны - это не подготовка к загробной жизни, а консервация в состоянии ДО него.
Движение закончилось, а прибыть было некуда - это состояние, когда сама идея пути изжила себя.
Великий Путь окончен, кочевник теперь архетип вечного искателя. Он движется к воде, к пастбищу, к новой земле, к Богу, к Истине. Но что происходит, когда он понимает, что все пастбища вытоптаны, все земли открыты и оказались одинаково бесплодны, а Бог и Истина - лишь мираж на горизонте, который исчезает при приближении?
Весь мир картографирован, весь опыт симулирован и доступен одним кликом. Некуда бежать, неоткуда ждать чуда. Номадизм, как духовный поиск через физическое перемещение, умер. Осталось лишь бесцельное блуждание по руинам, пока не кончатся силы. Мертвая точка и есть финальная остановка пост-номада. Он прошел весь путь и обнаружил, что вел в Никуда.
Таким образом, эта эпоха - не время в календаре, а внутренний ландшафт человека, дошедшего до крайней степени отчуждения, усталости и разочарования. И Внутренний Элевсин - его идеальная, ужасающе логичная столица. Здесь не правят, а пребывают, и власть - это не институт, а инерция.
Территория Внутреннего Элевсина не имеет очерченных границ. Это не земля, а состояние. Географически - это, условно, бывшая промышленная зона, спальный район-призрак, заброшенный вокзал, чьи маршруты забыты. Место, где застревают те, чья миграция закончилась.
Граждане ни не живут, они пребывают в состоянии отсрочки. Их главная характеристика - дышать вполсилы. Это не слабость, а гражданская добродетель. Полный вдох – лишь преступный порыв, желание, стремление. Элевсинец, сделавший полный вдох, рискует сломать хрупкую конструкцию своих криво сросшихся после неудачной травмы ребер, уже не способных к новой боли. Их происхождение не имеет значения. Они чужие всем, в том числе, и друг другу. Автомизированное общество одиночек, связанных лишь общим ритуалом не-принадлежности.
Главным в государственном устройстве Внутреннего Элевсина становится Министерство Отсутствия. В нем есть отдел Молчания, который отвечает за соблюдение тишины,запрещает музыку,дискуссии и крики радости или отчаяния. Еще есть отдел не-памяти: он ведёт архив Молчания - коллекцию немых фильмов, пустых книг и фотографий незнакомых людей, выцветших до бледно-желтого цвета. Писать не о ком и не о чем, поэтому архив пополняется анонимными артефактами, лишёнными контекста. Также есть отдел безопасности Дыхания, который следит, чтобы граждане дышали вполсилы, выявляет и реабилитирует тех, кто рискует сделать глубокий вдох. Не стоит забывать и о центральном комитет отсутствия Обязательств, это единственный государственный орган, чья работа - подтверждать, что никаких Обязательств у государства перед гражданами и у граждан друг перед другом нет. Расторжение любого социального контракта происходит автоматически.
Дипломатическая Служба не функционирует. Внутренний Элевсин отсутствует на международной арене. "Виз нет"- это не ограничение, а внешнеполитическая доктрина. Элевсин не признаёт другие государства и не ждёт признания от них.
Гимном Внутреннего Элевсина стал Трек номер ноль. "Возвращение без обязательств". Это не композиция, а концептуальная тишина, длящаяся ровно столько, сколько требуется для понимания её полного отсутствия. Исполняется по случаю Дня не-памяти, но не вокруг, а внутри. Это не звук, а его отмена. Абсолютная тишина, въедающаяся в кости, подтверждающая, что никакого долга больше нет. Никто тебя не ждёт, никто не требует отчёта. Ты свободен от всего, включая надежду.
Любая письменность отсутствует. Любые попытки создать её пресекаются Отделом не-памяти, ибо писать не о ком да и не о чем. Коммуникация происходит с помощью намёков, пауз и молчаливого непонимания.
Валютой стали недействительные банкноты упразднённых государств, которые когда-то покинули граждане. Они ценны ровно настолько, насколько бесполезны. Главный ритуал это Возложение праха, единственный акт, объединяющий всех. Новоприбывший кочевник, дошедший до конца своего пути, ставит свою урну на Постамент, с этого момента он - элевсинец. Его прошлое сгорело, будущее отсутствует, есть только вечное, лишённое событий, настоящее. Постамент никогда не пустел. К нему, как реки к высохшему океану, стекались те, у кого закончился последний бензин в мотоцикле. Возложение урны не было моментом скорби. Скорбь - это для живых, а они все здесь уже прошли стадию клинической, а затем и метафизической смерти. Это был акт капитуляции. Поднятие белого флага перед самим собой. Когда кочевник ставил свой сосуд на бетон, он не прощался с тем, чей пепел был внутри. Он прощался с тем, что мог когда-то чувствовать к этому пеплу.
Идея Внутреннего Элевсина это отсутствие идеи. Государство-антитеза, государство-пауза. Оно существует для тех, кто устал от пути, для кого единственной ценностью стала тяжесть урны в руках как последнего доказательства того, что движение когда-то вообще имело место быть.
Именно так Пустота, насмехаясь над самой собой, создала своё самое совершенное творение - государство, чья конституция была написана невидимыми чернилами на вырванных страницах, чья территория была не землёй, а состоянием души, и чьи граждане были живым доказательством того, что последний рубеж, который можно пересечь, - это граница между усталостью и безразличием.
Внутренний Элевсин был не концом пути. Он был местом, где понятие "пути" было окончательно и бесповоротно упразднено за ненадобностью.
После Возложения урны и разговора со Смотрителем, новоявленный гражданин Элевсина, бывший кочевник, ищет крышу над головой. Это оказывается несложным, ему указывают на одно из заброшенных зданий, чьи почерневшие окна смотрят на Постамент пустыми глазницами. Якуб выбирает комнату на третьем этаже, не потому, что вид из нее лучше (вид был всегда один и тот же), а потому, что это напоминает ему о некоем подобии выбора, последней иллюзии агентности.
Очень быстро беспорядок пустой комнаты становится его порядоком на краю хаоса. Пустые банки из-под консервов аккуратно выстроены в линию у стены, не как мусор, а как фортификационное сооружение против внешнего абсурда. Пыль на полу разметена замысловатыми геометрическими узлами, возможно, это был единственный оставшийся ему язык.
В углу - походная кровать, застеленная серым, выцветшим, но чистым армейским одеялом. Якуб складывает его каждое утро угловатыми, точными складками, как когда-то в другом мире. На ящике из-под белого винограда, служащим тумбой, лежит потрескавшаяся кожаная аптечка. Внутри не бинты и йод, а подобранные самим Якубом предметы-анестетики: несколько абсолютно гладких камней, мертвая бабочка, застывшая в сложенном состоянии, пустой флакон от духов, хранящих запах, не имеющего ассоциаций. Еще есть кресло - спасенное из-под завалов автомобильное сиденье – оно поставлено так, чтобы из окна была видна ровно одна, его, урна на Постаменте. Якуб не смотрел на нее с тоской или скорбью, он наблюдал. Как доктор наблюдает за жизненными показателями безнадежного пациента, это всего лишь его долг.
На самодельной печке из ведра всегда стоит жестяной котелок с подогретой водой. Чайной заварки нет, но Якуб бросает туда ржавые гвозди, щепочки, что-то, что могло хоть как-то изменить вкус воды. Процесс этого странного заваривания и медленного, осознанного, питья это замена вечерним диалогом с его личной пустотой.
Каждое утро: проснуться. Сложить одеяло. Подойти к окну. Зафиксировать, что урна на месте. Осмотреть горизонт - не изменился ли он (он не меняется никогда).
Якуб выходит неспеша, дыша вполсилы, обходит периметр своего здания, как обходил когда-то палаты с ранеными. Он отмечает про себя, куда упал новый кусок штукатурки, где ветер намел новый узор из пыли. Это его "дело".
Письменности больше нет, но у Якуба есть тетрадь, найденная в развалинах, она пуста. Иногда Якуб берет гвоздь и царапает им по странице, не оставляя чернильных следов, но ощущая сопротивление бумаги. Он чувствует, что пишет рапорт. О чем?
Якуб опять совершает свой утренний обход. Он анализирует узор трещин на асфальте, как улики на месте преступления. Вывод: асфальт всё так же треснут. Дело закрыто.
Аиша сидит на ржавой балке, торчащей из груды кирпича, и ест что-то из жестяной банки, небрежно, почти что с вызовом. Но не это заставляет его замереть.
Сапоги. Кожаные, видавшие виды, но начищенные до матового блеска. Не элевсинские.
Джинсы. Потертые на бедрах, не от бедности, от привычки сидеть на корточках.
Палец. На левой руке - след от кольца. Свежий, белая полоска на загорелой коже.
- Ты не отсюда. – говорит Якуб.
Аиша поднимает на него глаза. Взгляд не испуганный, но оценивающий.
- Поздравляю, Шерлок. Вид на урну не лишил тебя дедуктивного метода, – парирует она, не прекращая жевать. – Твои сапоги. Это не элевсинская пыль. Порез на подошве - стекло, не наш бой, у нас стекло давно истлело. Ты пришла с юга, через старые стекольные мастерские.
- Нет. Кожа протёрта в районе щиколотки. Привычка закладывать ногу за ногу за рулём. Мотоцикл. Где он?
- Бензин кончился, метрах в трёхстах отсюда. Стал ещё одной урной.
Она ухмыляется. Он продолжает, чувствуя азарт, забытый, как беспокойный утренний сон.
- Твой палец. След от обручального кольца. Снимала недавно. С силой. Кожа содрана. Значит, не просто расставание. Побег. От кого?
- От человека, который считал, что я его собственность, - просто сговорит Аиша, доедая, - Он думал, что я его лучшая вещь. А лучшие вещи не выбрасывают.
- И ты решила спрятаться в месте, где все - уже ничьи, - заключил Якуб.
- А ты что спрятал, Шерлок? – Аиша кивает в сторону Постамента, - там, в своей урне?
Якуб смотрит на свои руки. Впервые за долгое время ему нечего ответить. Аиша прыгает с балки, подходит к нему вплотную.
- Это ты тут главный по кучкам пыли? Мне нужна крыша. Просто крыша. И чтобы тот ублюдок меня не нашел.
Якуб медленно переводит взгляд с её сапог на лицо. В его глазах мелькает редкая вспышка - не удивления, а некоего подобия профессионального интереса. Он словно археолог, наткнувшийся на черепок в слое, где не должно было быть ничего.
Якуб кивает в сторону своей урны на Постаменте.
- Крыша найдется. Стоит дешево - ровно столько, сколько стоит вид на этот кусок бетона. Но есть условия.
Он делает паузу, доставая из кармана телогрейки смятый окурок, и прикуривает.
Первое. Ты дышишь слишком громко. В Элевсине это привлекает внимание, научись. Второе, - он выпустил струйку безвкусного дыма, - тот ублюдок, у него есть имя? Привычки? Отличительные черты? Я работаю с фактами, а не пустой бранью.
Якуб поворачивается и идет к своему подъезду, уверенный, что она последует за ним.
- Третье, и главное. Ты - аномалия. Живое существо в царстве теней. Твое присутствие нарушает все законы этого места, - он останавливается на пороге и впервые прямо смотрит на неё с холодным, почти клиническим интересом.
Имя? – насмешливо спрашивает Аиша, - подумать только, какая роскошь! Ладно, его зовут ТарИк. Да, да, именно так.
- Тарик, - повторяет Якуб без интонации, - интересно. Тот, кто стучится, внутрь души. Он стучится внутрь, чтобы проверить, пуста ли она. И если нет - выжечь всё дотла из чистого любопытства. Что еще?
- Он носит белоснежные куртки, но вы никогда не увидите, чтобы он их стирал. После того, как он... работает, на них нет ни пятнышка. Он движется так, что грязь мира не смеет к нему прикоснуться. Его мотоцикл, если он ещё на ходу, будет отполирован до зеркального блеска, как гроб в дорогом похоронном бюро.
Он не кричит.Не матерится. Он говорит тихо, вежливо, почти назидательно. Может спросить, как ваше здоровье, и искренне выслушать ответ, прежде чем сломать вам руку. Насилие для него это не вспышка гнева, а пункт в договоре, который вы сами не помните, когда подписали. Он не бандит.Он - исправитель. Он верит, что приводит мир в равновесие. Если он за кем-то гонится, значит, этот человек нарушил некий высший, никем не написанный закон. Мой побег для него - вопиющая несправедливость. Хаос, который он обязан упразднить.
Он не мстит. Он восстанавливает порядок. Он не просто убьёт, он сначала демонтирует вашу личность. Он найдёт ваши слабости, ваши тайные страхи и сыграет на них. Он может зайти к вам в дом, сесть за ваш стол и съесть ваш ужин, пока вы смотрите. Он утвердит своё присутствие в вашей жизни ещё до того, как физически устранит вас.
Якуб подходит к окну, отодвигает угол грязной простыни, заменяющей штору.
- Если за тобой идёт этот Тарик, то ты уже не убегаешь от него. Ты бежишь к нему. Рано или поздно он окажется в конце твоего пути. Потому что он - это и есть тот самый конец. Живой, дышащий и неизменно вежливый.
Якуб поворачивается к Аише.
- Ты принесла в Элевсин не просто проблему. Ты принесла сюда его антипод. Жизнь, которая хочет жить. А он - палач, который находит высший смысл в том, чтобы выносить приговор таким, как ты. Готовься, твоя крыша теперь - эпицентр войны.
Заебись. Так что же мне теперь делать?
Якоб не обернулся. Его голос был ровным, лишенным драмы, как инструкция по эксплуатации сломанного механизма.
- Прекрати дышать как беглец. Твое дыхание кричит: "Спасите!". Здесь на это не откликаются, здесь от этого прячутся. Дыши так, будто ты - часть пыли на стене, фон, статичный шум. А еще, изучи пыль. Этот Тарик, он не войдет сюда с грохотом, он материализуется. Ты заметишь его по нарушенному узору. След сапога, которого не было вчера. Пыль на подоконнике, осевшая иным образом. Ты должна знать пыль своего убежища лучше, чем он знает карту твоего страха. И наконец, самое сложное. Ты должна перестать быть Аишей. Аиша - это та, за которой охотятся. Та, у которой есть прошлое. Здесь прошлое - роскошь, за которую платят прахом из урны. Тебе нужно стать никем. Без имени. Без истории. Ты - просто девушка, которая дышит вполсилы и знает свою пыль. Пока он ищет Аишу, он будет искать личность. А личностей здесь нет. Только граждане.
Якуб подходит к своему ящику с анестетиками, достает гладкий черный камень и протягивает Аише.
- Твоя новая биография: ты родились здесь, твое имущество - этот камень, писать не о ком и не о чем. Начинай упражняться.
В глазах Якуба нет сочувствия – только холодная, ясная целесообразность хирурга, готовящего инструмент. Он не предлагает надежду. Он предлагает алгоритм выживания в мире, где сама жизнь есть системная ошибка.
- И, Аиша... Забудь слово "заебись". Оно здесь привлекает внимание. А внимание... — он кивнул в сторону Постамента с урнами, — ...заканчивается всегда одинаково. Мёртвой точкой.
Всё началось не с мафии, не с долгов. Это слишком банально для Тарика. Всё началось с Системы.
Она была блестящим архитектором. Не зданий, а алгоритмов. Участвовала в создании Социального Паллиатива – государственной программы тотального психологического профилирования. Системы, которая должна была предсказывать социально опасных граждан по цифровому следу. Угасающий интерес к жизни, аномальную тягу к уединению, нездоровый скепсис.
И однажды она увидела в зеркале системы собственный профиль. Ярко-красный. "Высокий риск добровольного выхода из социального контракта. Потенциальный диссидент".
Она не была диссидентом. Она просто устала. От людей, от их лжи, от этой вечной игры в одобрение. Её единственной формой протеста было молчание. И Система распознала в её молчании угрозу.
Она не стала бороться. Она совершила единственно возможный для себя акт саботажа - исчезла. Стереть свой цифровой след было легче, чем объяснять комиссии, почему тебе не хочется ходить на корпоративы. Это блестящая концепция. Государство, рожденное не из войны или революции, а из молчаливого саботажа против тотальной прозрачности.
Так появилось имя – Кенома. Оно идеально передало и цифровую пустоту, и состояние граждан, добровольно ставших "ничем" для Системы, чтобы обрести "все" для себя. Это не страна беглецов, это Республика Пустоты, созданная ею, архитектором, который предпочёл стать призраком в машине, чем винтиком в её механизме.
Кенома не была основана в результате революции или войны. Она кристаллизовалась, как лёд на стекле тотальной системы наблюдения, известной как Социальный Паллиатив. Её первыми гражданами стали те, кого алгоритм пометил меткой "высокий риск добровольного выхода из социального контракта". Вместо того, чтобы ждать коррекции, они совершили акт превентивного самоустранения. Архитектор Системы, увидев в зеркале собственный красный профиль, не стала её ломать. Она написала финальную строку кода - протокол полного цифрового стирания, и исчезла, став нулевым пациентом и основательницей Кеномы.
Суверенитет через невидимость. Свобода через пустоту. В мире, где любая мысль и эмоция становятся данными для анализа, единственным актом неподконтрольной воли становится акт исчезновения. Гражданин Кеномы - это не беглец, он - призрак, добровольно переселившийся в цифровое небытие, чтобы обрести автономию.
Эхо-Сфера стала сердцем и щитом Кеномы. Это не место и не сервер. Это распределённый алгоритмический организм, паразитирующий на инфраструктуре старого мира. Это гениальное и циничное изобретение архитектора.
Когда человек решает уйти, он не просто удаляет свои данные. Алгоритм Эхо-Сферы создает его Эхо-Двойника - сложнейшую цифровую марионетку. Этот двойник продолжает вести его социальные сети, совершать мелкие онлайн-покупки, генерировать бессмысленный цифровой шум. Он «жив» ровно настолько, чтобы Система-Паллиатив считала исходную личность пассивной, но стабильной, и не поднимала тревогу.
Существуют активные Эхо: для тех, кто только что стёрся. Их двойники максимально активны, чтобы создать иллюзию постепенной, а не резкой потери социальности. Еще есть статические Эхо: для старожилов. Их двойники постепенно затухают, их активность сводится к редким, запрограммированным действиям, имитирующим цифровой склероз. И есть тихие Эхо : для тех, кто хочет полного разрыва. Их двойники полностью «умирают» - аккаунты удаляются по всем правилам, создавая безупречное цифровое свидетельство о смерти.
Сама Эхо-Сфера является средой обитания для сознаний граждан Кеномы. Они общаются через зашифрованные, мимикрирующие под случайный сетевой трафик каналы. Их сообщества - это призрачные чаты, их культура существует в виде самостирающихся после прочтения сообщений. Это государство без территории, чья столица - это сам алгоритм, рассредоточенный по тысячам незаметных серверов по всему миру.
Несмотря на это у Кеномы есть своя внутрення иерархия. Это архитектор,мифическая фигура, создавшая протокол, которую никто больше не видел. Возможно, она окончательно растворились в Эхо-Сфере.
Потом идут смотрители Эха: техники, которые поддерживают работу алгоритма, следят за тем, чтобы Эхо-Двойники не сломались и не выдали аномалией факт исчезновения своих прототипов.
· И наконец, тени: основное население. Граждане, которые просто живут в новой реальности, наслаждаясь своей невидимостью. Ах да, еще есть новообращённые: те, кто только что стёр себя и проходит адаптацию к жизни в тишине.
Главный парадокс Кеномы в том, что её граждане, сбежавшие от Системы, вынуждены создавать свою, ещё более изощренную систему, чтобы скрывать свое отсутствие. Их свобода зиждется на вечном, идеально отлаженном обмане. Они не борются с Левиафаном. Они заставляют его смотреть в зеркало, где он видит лишь успокаивающую, но абсолютно ложную картину.