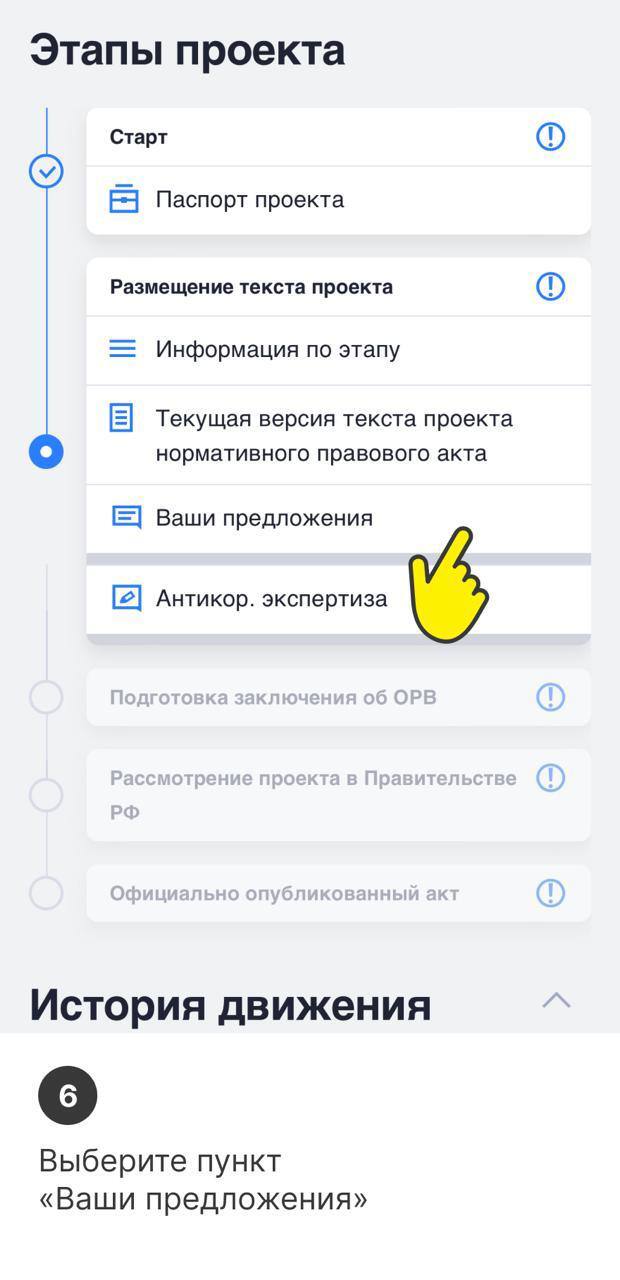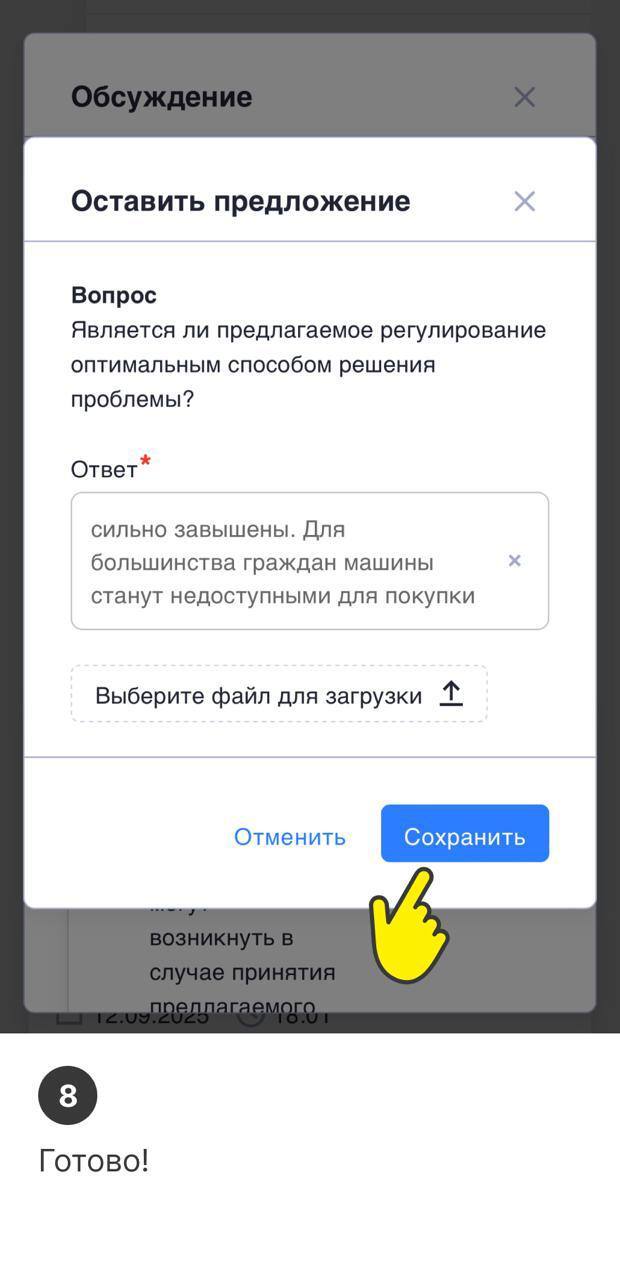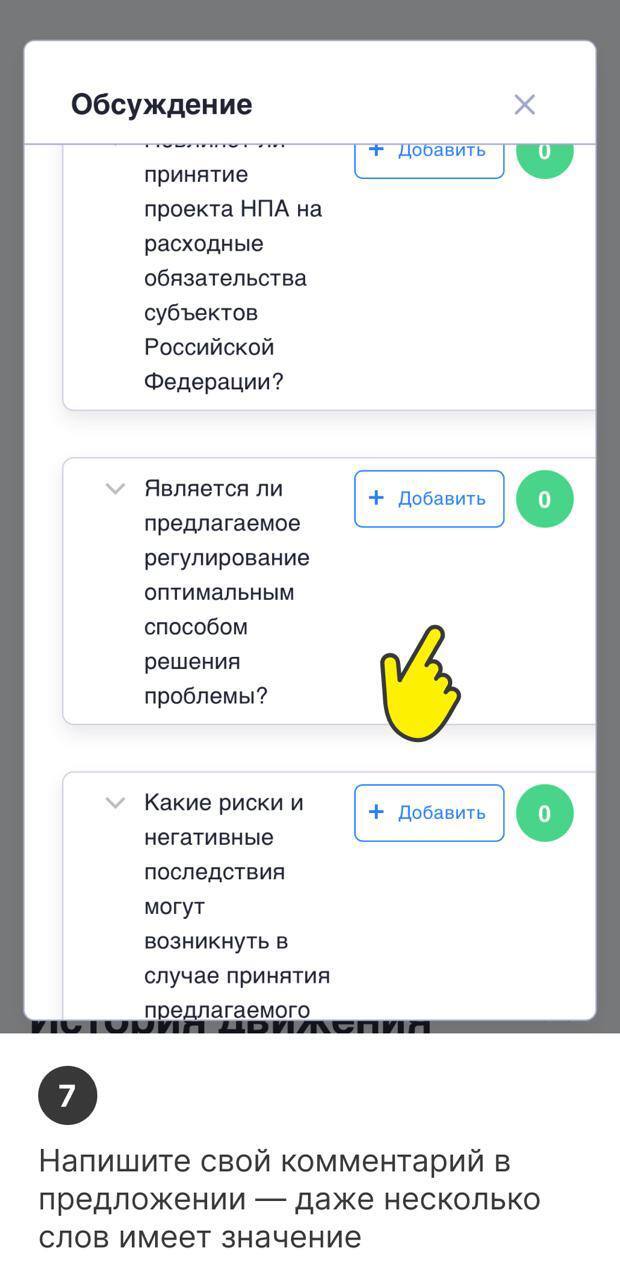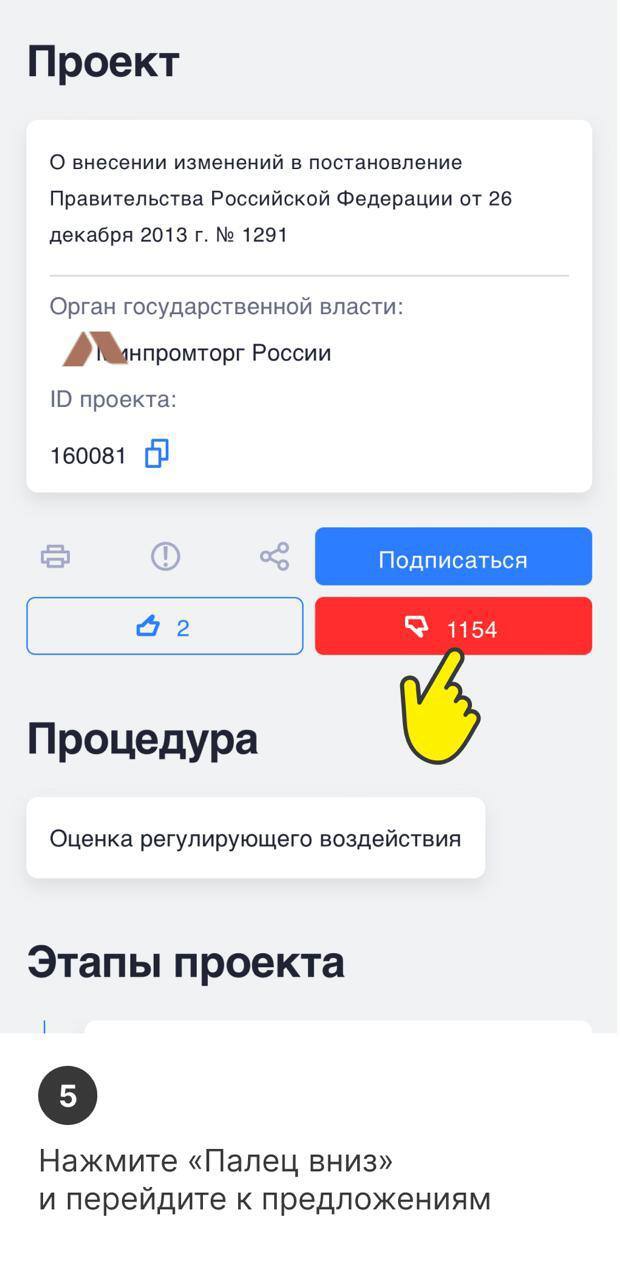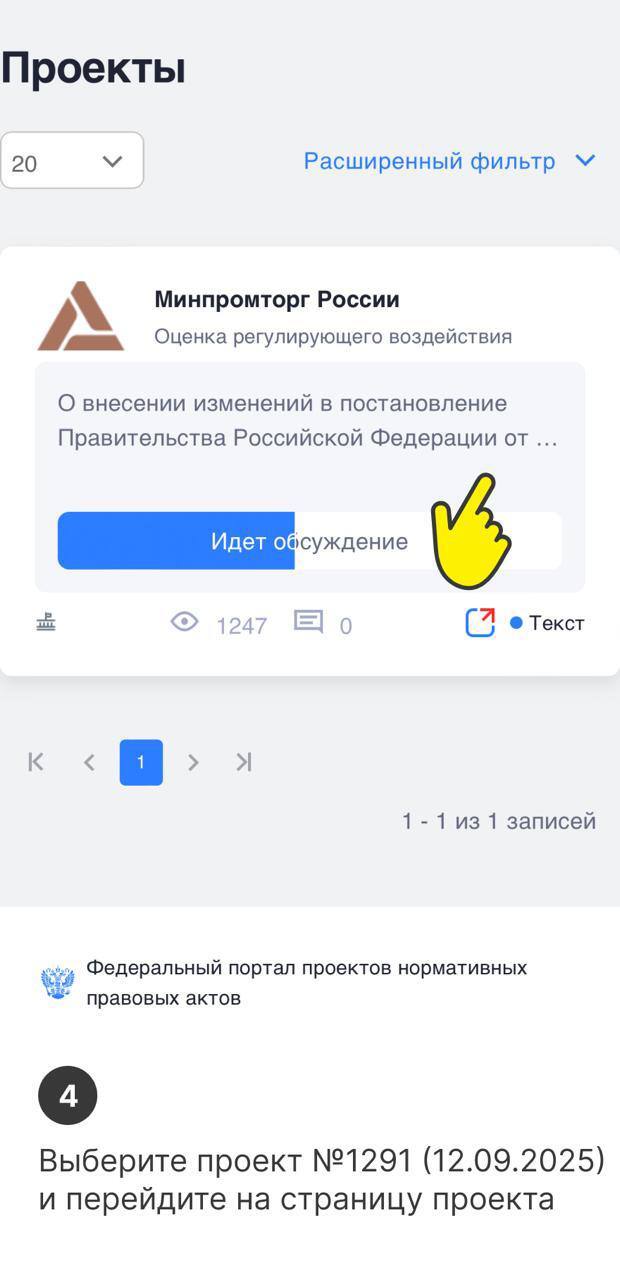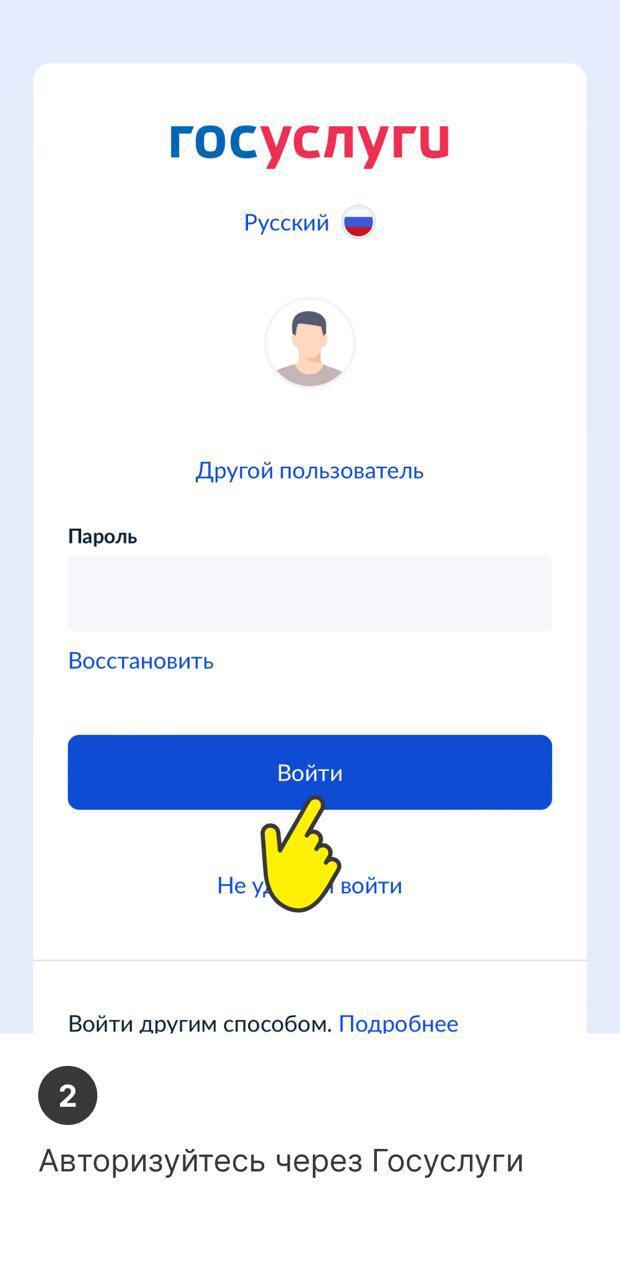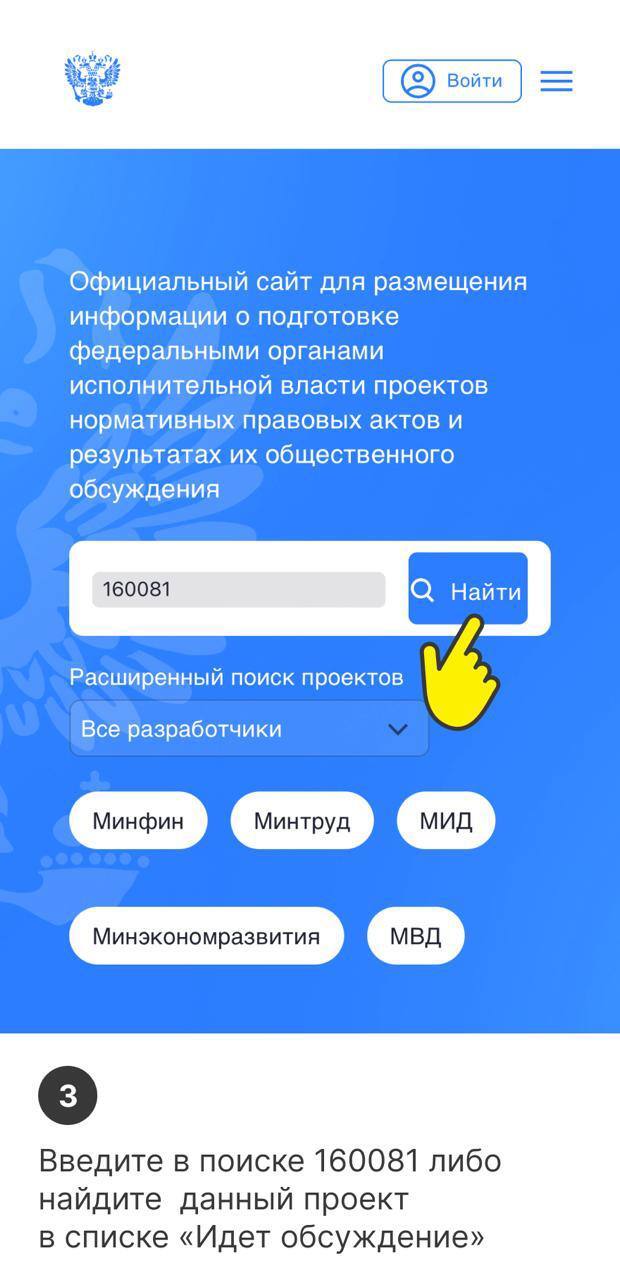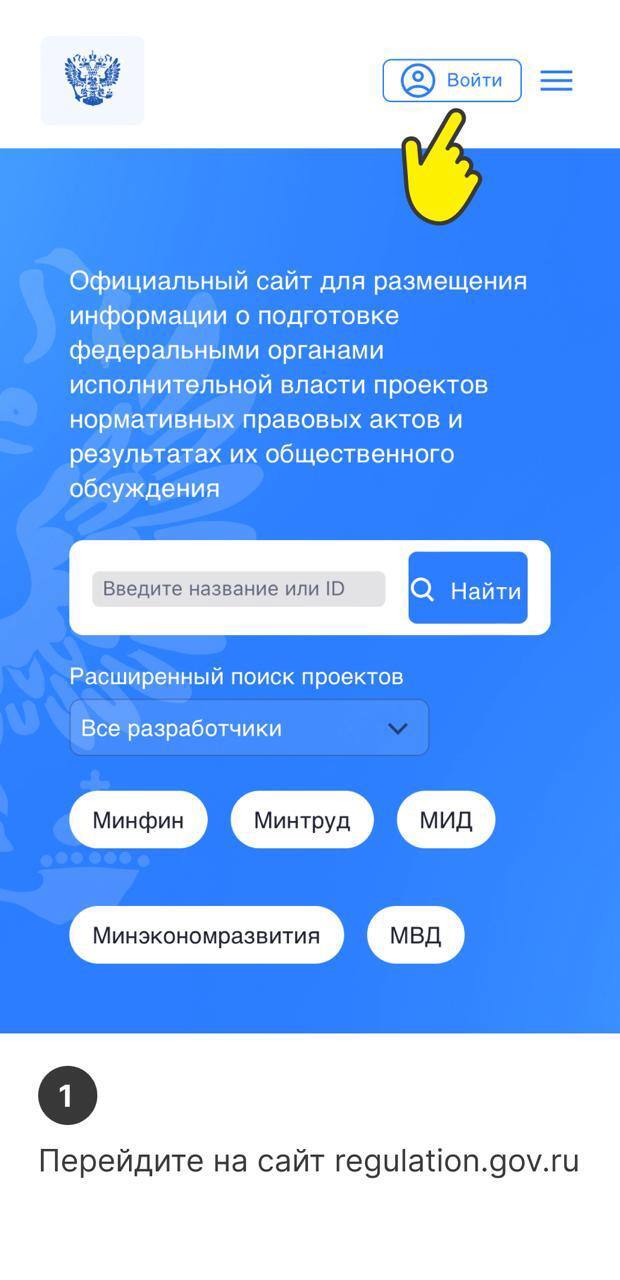Однажды ночью проводка в башке коротнула. Не то чтобы вспышка — скорее, выбило пробки, и в густой, бархатной темноте зажглись аварийные огни. И я увидел. Увидел, что ненависть — это прошивка для скота, базовая комплектация для тех, кого ведут на бойню, чтобы они не смотрели на пастуха.
Я ненавидел их — других, чужих, пришлых. Ненавидел со смаком, с огоньком, с хорошо отлаженным ритуалом праведного гнева. А потом щелчок. И панорама развернулась на 90 градусов. Не горизонталь, где мы, как тараканы в банке, грызем друг другу лапы. А вертикаль. Лестница Иакова, ведущая прямиком в пасть Молоха, и ступени ее сделаны из наших костей.
Чурка. Какое сочное, рычащее слово. Клеймо. Тавро. А оказалось — диагноз. Наше общее имя. Если твоя жизнь — это разменная монета в чужом казино, если твое время покупают за гроши, чтобы построить из него башню до небес, откуда плюют тебе на голову, — ты чурка. Если твой паспорт — это просто инвентарный номер, а твоя страна — загон с флажком, — ты чурка. Твоя национальность — штрихкод на затылке. Твоя культура — рингтон на дешевом смартфоне. И неважно, молишься ты в храме, мечети или у полки с айфонами. Мы все — топливо. Биомасса для великого двигателя, который ревет где-то там, наверху, в стерильных небесах из стекла и стали.
А там, наверху, сидят не люди. Там сидят функции. Корпораты. Жрецы хромированных соборов, где молятся на тикер биржевых котировок. Их вера — квартальный отчет. Их заповеди — KPI. Их бог — Золотой Телец, вечно беременный процентами. Он один на всех, просто у каждой конфессии свой Папа, свой CEO, свой архиепископ в костюме за двадцать тысяч долларов, который вещает о синергии и эффективности, пока его паства пожирает друг друга за место на парковке. Это не предатели. Предать можно своих. А у них нет своих. У них есть только активы.
И есть животные. О да. Это те, кто принял прошивку. Кто рычит и скалит зубы на соседа по загону, потому что у того шерсть другого цвета. Например, националист — это сторожевой пес системы, который счастлив лаять на других цепных псов, пока хозяин забирает всю миску. Он гордится своей цепью, длиной своей цепи, ржавчиной своей цепи. Он готов перегрызть глотку за честь своего ошейника. Он — идеальный раб, не знающий, что он раб. Он — ошибка в коде, ставшая функцией.
А есть мы. Одиночки. Те, кто сорвался с цепи или никогда на ней не сидел. Мы видим их — и жрецов в башнях, и псов у их подножия. Мы — пыль на их начищенных ботинках, помеха в их идеальной статистике. Мы те, кто помнит, что такое небо не через экран. Что такое братство не по цвету флага, а по взгляду. Что такое свобода — не как выбор между двумя сортами дерьма, а как право послать к черту сам выбор.
Они стравливают нас, как бойцовых петухов. Бросают нам кость — язык, веру, историю, границу. И мы вцепляемся в нее, в глотки друг другу, рычим, брызжем слюной, пока они осушают наши вены через невидимые катетеры. Мигрант, местный, левый, правый, верующий, атеист — какая, к черту, разница? Это все названия разных бараков в одном огромном концлагере.
Цель? Да какая, к дьяволу, цель в этом карнавале уродов? Цель — не стать ими. Не стать ни жрецом, ни псом. В мире, где тебя оцифровывают, каталогизируют, монетизируют и утилизируют, просто остаться человеком — это уже теракт. Сохранить в себе то, что не продается и не покупается. Волю. Сострадание. Ярость. Любовь. Смотреть в глаза другому чурке — из Таджикистана, из Рязани, из Мексики, из Техаса — и видеть не врага, а брата по несчастью. Брата по этой гигантской, сияющей неоном мясорубке.
Враг — это не он. Враг — это структура. Код. Алгоритм. Холодный, безличный, самовоспроизводящийся голод системы, которая жрет души и давится. И единственный способ бороться с ней — это отказ. Отказ играть. Отказ ненавидеть того, на кого тебе указали. Отказ быть функцией.
Быть человеком. Просто. Сука. Человеком. И пусть они подавятся нашими костями.