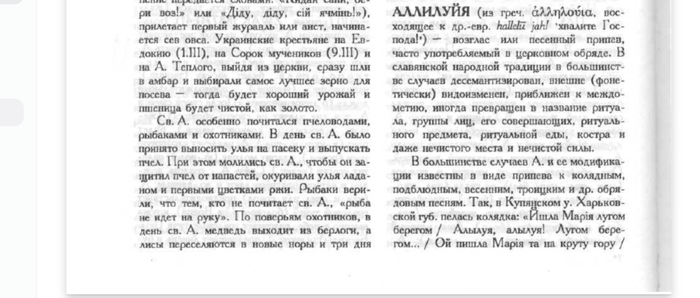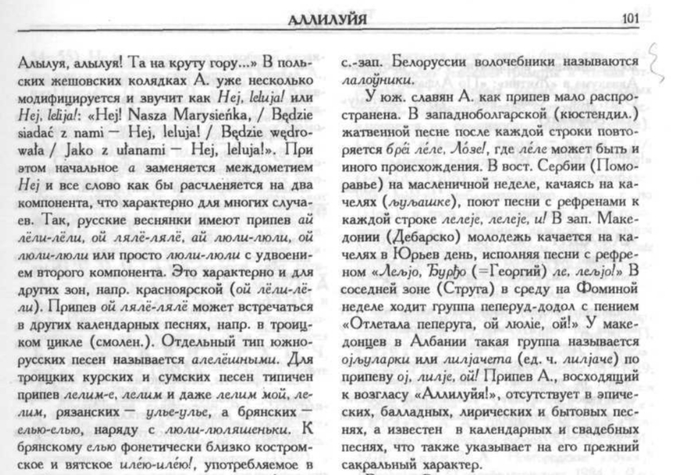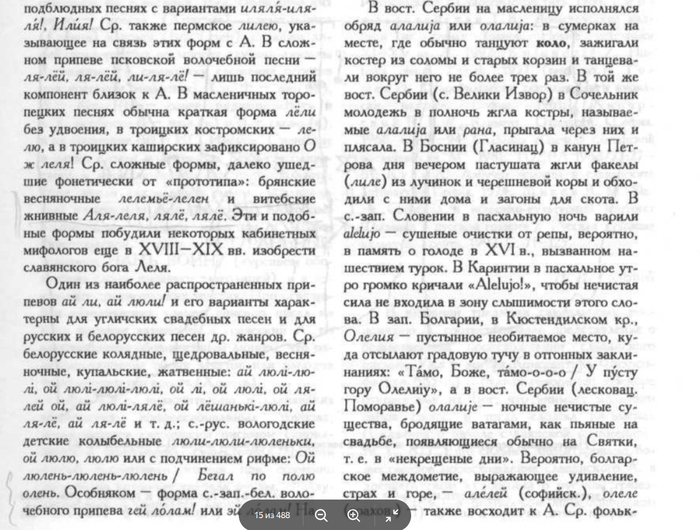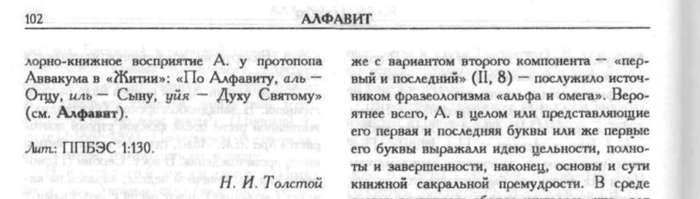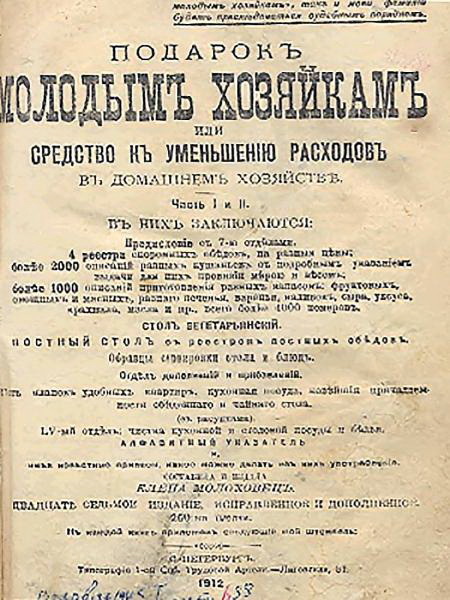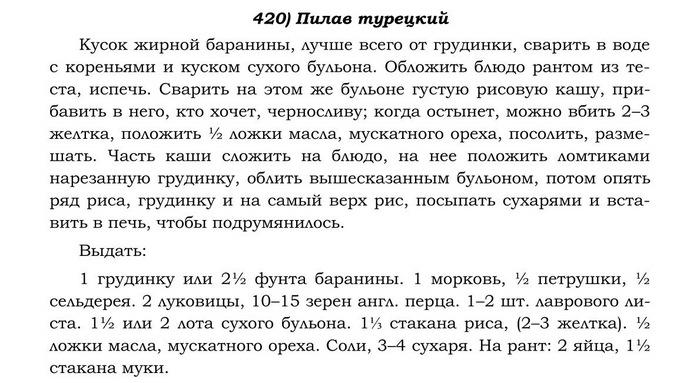Русская народная сказка «Коток золотой лобок»
Малоизвестный эквивалент сказки про золотую рыбку, ту самую, которая: «Чего тебе надобно, старче?»
Жил старик со старухой близ лесу в худой избёнке. Раз старуха и посылает старика в лес: «Ступай, – говорит, – старик, наруби дров, я хоть печку истоплю да каши наварю». Взял старик топор и пошёл в лес дрова рубить. Подходит к пню, только ударил по нем топором, как выскочил Коток Золотой лобок и крикнул: «Меня кота будишь, мне спать не даёшь! что тебе, старик, надо?» Старик не знал, что сказать, думал, думал, наконец, и придумал: «Избёнку надо бы, избёнка у нас плоха стала...» – «Ступай домой, – говорит Коток, – будет у вас новая изба...»
Приходит старик домой и видит: стоит большая новая изба. Вышла к нему навстречу старуха и говорит: «Дом-то у нас богатый, да дровец нет, поди наруби дров». Пошёл опять старик в лес, стукнул топором в пень, выскочил Коток и говорит: «Меня кота будишь, мне спать не даёшь! чего тебе, старик, надо?» – «Старуха дровец просит», – сказал старик. «Хорошо, иди домой будут у вас дровца». Приходит старик домой и видит: около дома целые костры дров навалены. А старуха вышла из дому и говорит: «Всего-то у нас много, только хлеба нет, поесть нечего».
Взял опять старик топор и пошёл в лес. Стукнул топором о пень... (и т. д.). «Чего тебе надо?» – «Муки старуха просит, есть, – говорит, – нечего». – «Хорошо, ступай домой, будет у вас мука». Приходит старик домой и видит: хлеба полные амбары навалены. Вышла старуха и говорит старику: «Всего-то у нас много, только сидеть не на чём». Взял старик... (и т. д.). «Чего тебе надо?» – «Мебели просит старуха, сидеть, говорит, не на чём». «Ступай с богом домой, будет у вас и мебель» Приходит старик домой и видит: мебелью весь дом установлен. Старуха опять и говорит: «Всего-то у нас много, только одёжи нет, надеть нечего».
(Кот даёт старику и старухе одежду. Тогда старуха заявляет желание сделаться царицей, а чтобы старик был царём. И это исполняется. Наконец, старуха посылает мужа к коту, чтобы тот сделал её богородицей. На это кот ничего не ответил и ушёл в пень. Старик вернулся домой и вместо дворца нашёл прежнюю ветхую избёнку и жену свою в прежнем виде).
Источник:
Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н. А. Иваницким в Вологодской губернии. – Вологда, 1960.