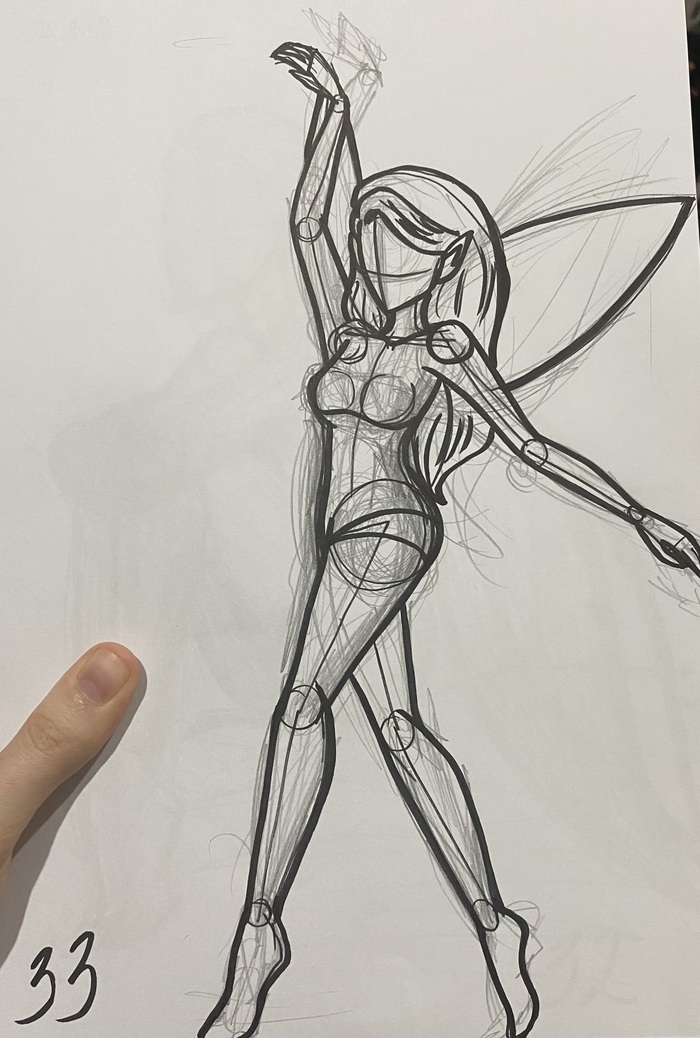Сегодняшний день был серым во всём. Серое небо сочилось мелкой, ленивой моросью, которая не освежала, а просто делала мир мокрым. Серые ограды. Серые, оплывшие лица на выцветших фотографиях. Даже воздух пах серостью — смесью сырой земли и увядающих цветов с соседней могилы, где вчера кого-то закапывали под пафосную музыку.
В этом царстве уныния его могила была самой серой. Простой прямоугольник из щербатого бетона. Никаких ангелов, никакого полированного гранита. Просто камень и выбитые на нём буквы, без души, будто по трафарету.
Меня передёрнуло. От этой фразы веяло таким вселенским похуизмом, что захотелось закурить прямо здесь, наплевав на все правила. Я протянул руку и провёл пальцами по холодным, мокрым буквам. Камень был скользким и неприятным на ощупь, как кожа утопленника.
Не удар. Не вспышка. Меня начало медленно засасывать в чужую апатию, будто я ступил в болото. Тело налилось свинцом, веки потяжелели, а мир потерял резкость.
Я лежал на диване. Диван был моим островом, моим миром, моей тюрьмой. Вокруг — хаос. Квартира, где уже несколько дней, а может, недель, никто не убирался. Запах кислого молока, грязных подгузников и тотального безразличия.
А потом я услышал его. Крик. Тонкий, надрывный, как сирена воздушной тревоги, от которой нельзя спрятаться. Это был мой сын. Младенец. Он лежал в своей кроватке в соседней комнате и орал. Орал, потому что был мокрый. Или голодный. Или просто хотел, чтобы его взяли на руки.
Я лежал и слушал. Каждая нота его крика была как удар молотком по нервам. Она требовала действия. Встать. Пойти. Поменять. Накормить. Успокоить.
Мой покой. Моя тишина. Это мелкое, орущее существо было главным врагом моего покоя. Оно постоянно чего-то хотело. Оно было чёрной дырой, высасывающей мою энергию.
«Замолчит», — думал я, глядя в потолок с жёлтым пятном от протечки. — «Они всегда замолкают».
Крик становился слабее. Он уже не требовал, а молил. Переходил в хрип, в сиплое бульканье, от которого закладывало уши. Я слышал, как он захлёбывается в собственном плаче, в отчаянии. Потом — тихое поскуливание. А потом — тишина. Та самая. Идеальная.
Я лежал и думал, что вот он, настоящий дзен. Не в горах Тибета. А здесь, на моём продавленном диване. Когда мир вокруг наконец-то, сука, заткнулся.
Я лежал. Час. Два. Я не знаю. Я просто наслаждался. Наконец-то. Тишина.
Дверь хлопнула. Вернулась жена. Уставшая, пахнущая улицей и дешёвым кофе из автомата. На её щеке — грязный след от слезы, размазанный по тональному крему.
— Ты что, оглох?! — её голос сорвался на визг. — Он же...
Она не договорила. Бросила сумки. Метнулась в детскую.
Секунда тишины. А потом — вой. Не крик, не плач. Вой зверя, которому вырвали сердце без анестезии.
Я не пошевелился. Даже когда она вышла, шатаясь. Она держала на руках маленький, обмякший свёрток. Я видел синеватые губы ребёнка, его крошечные пальчики, уже холодные и восковые. Она смотрела на меня. Её глаза были сухими. Вся боль ушла в вой, а в глазах осталась только пустота. И решение.
Её вой мешал моему покою.
Я хотел сказать ей, чтобы она заткнулась.
Но не успел. Последнее, что я увидел, — это не лицо моего мёртвого сына. Это её сломанный ноготь на пальце, которым она вцепилась в тяжёлое основание настольной лампы.
Удар. И наконец-то — абсолютный, вечный покой.
Я очнулся, отшатнувшись от могилы. Меня трясло. Не от холода. Меня выворачивало от омерзения. Хотелось содрать с себя кожу, чтобы избавиться от ощущения этой липкой, убивающей лени.
Я выхватил блокнот, едва не вырвав страницы.
«Он не знал цену покоя. Он назначил её сам. Ценой стала жизнь его сына. Он не созерцал. Он гнил заживо, и его тишина была могилой, в которую он лёг первым. Умер не от удара по голове. Умер от того, что отказался встать».
Я с силой захлопнул записную книжку. Хлопок прозвучал как выстрел в этой мёртвой тишине. Дождь почти прекратился, но небо так и осталось безнадёжно серым.