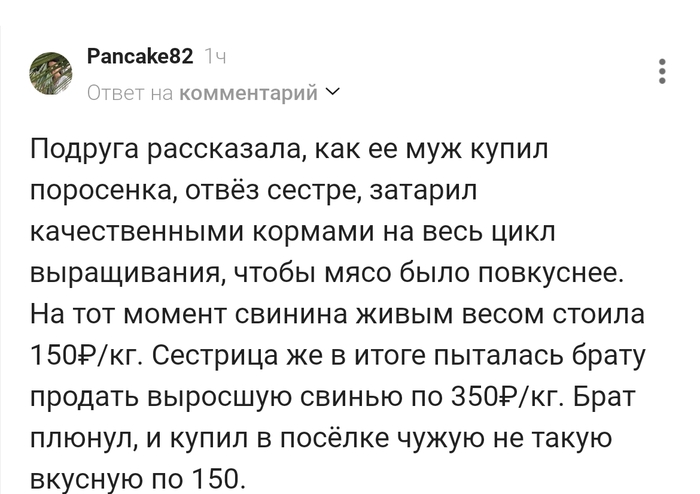Началось все с ебаного зеленого значка на пачке. Рязанский кефир «Родные просторы». Я его всегда беру. Густой, ядреный, под окрошку – самое то. А тут эта хуйня, как клеймо прокаженного. Халяль, блядь. Ну, халяль и халяль, мне-то что, я не свинья, чтобы в апельсинах разбираться. Налил, хуйнул, забыл.
Правило первое гастрономического джихада: не сотвори себе кумира из свиного сала.
Нельзя было оставлять этот кефир на ночь в замкнутом пространстве с идеологически нестойкими продуктами.
Я открываю холодильник «Бирюса», старый, как грехи моей прабабки. Он гудит, как имам перед проповедью. И я вижу.
Кусок шпика, который я привез от тетки из деревни, лежал на блюдечке и потел. Не от тепла. От страха. Мелкая, сука, дрожь билась под желтоватой шкуркой. Он смотрел на меня своими мясными прожилками и безмолвно умолял о спасении. А на него, с верхней полки, пялился борщ. Вчера он был просто борщом. Наваристым, с говяжьей косточкой. Сегодня в его свекольной глубине плескалась первобытная православная ненависть. Он был готов превратиться в окрошку, лишь бы не стоять рядом с этим салом.
Рядом с салом крестилась срезом «Докторская». Я не шучу. Капелька жира медленно сползла, рисуя идеальный крест на розовой, девственной плоти.
И тут я услышал. Тихий шепот из молочного отсека, где стоял Он. Пациент Зеро. Нулевой кефир. «Свиное… скверна…»
Я захлопнул дверцу. Сердце колотилось где-то в районе кадыка. Это не маркетинг. Это, блядь, спора. Грибница, которая прорастает в твой быт через молочнокислые бактерии. Они не портят еду. Они ее обращают.
Майонез «Ряба», вчера еще блядовито-желтый и готовый отдаться любому пельменю, стоял потупив глазки-буквы. Скромный, сука. Будто на него паранджу надели. Яйца в лотке лежали так ровно, будто готовились к празднику, а не к яичнице. И все они были повернуты острыми концами в одну сторону. На юго-восток. Я проверил по компасу в телефоне. На юго-восток, блядь.
Правило второе гастрономического джихада: у каждого продукта должно быть свое место.
Пельмени «Сибирские», мой стратегический запас на случай ядерной войны и внезапной пьянки, устроили бунт. Они сбились в один угол морозилки, оставив вокруг себя пустую, вымороженную зону. Они требовали отдельную полку. Подальше от свиной котлеты, сиротливо замерзшей в пакете. Котлета плакала кристалликами льда. Я это видел.
Я сорвался. Я схватил пачку пельменей. – Вы чего, охуели?! – заорал я на морозилку. – Вы сами наполовину из свинины, ублюдки лицемерные! Ваше тесто – это клейковина и грех! Пельмени молчали. Но я чувствовал их осуждение. Холодное, мучное, непреклонное.
Я решил разобраться с первопричиной. С кефиром. Я достал пакет. Он был холодный, как рука пророка. Я открутил крышку. Понюхал. Кефиром не пахло. Пахло правотой. Убежденностью. Непоколебимой, сука, верой в то, что мир должен быть другим. Без сала. Без «Докторской». Без меня.
Этот кефир нельзя было вылить в раковину. Он бы заразил канализацию. Весь город, вся Рязань начала бы совершать омовение ног борщом по утрам. Его нельзя было сжечь. Его споры поднялись бы в небо и выпали бы кислотным дождем на наши грешные головы.
Я сел за стол. Налил полстакана. Холодильник затих. Смотрел на меня. Ждал. Колбаса, борщ, сало, яйца – все смотрели. Либо я, либо он.
Я выпил. Кислый, как разочарование. Густой, как отчаяние. Во мне что-то щелкнуло.
Я смотрю на кусок сала. И мне не хочется его. Мне… брезгливо. Я смотрю на бутылку водки в баре. Грязное стекло. Нечистый спирт. Я встаю, открываю холодильник. Беру пачку сливочного масла. И аккуратно поворачиваю ее так, чтобы красная корова на упаковке смотрела строго на юго-восток.
Холодильник удовлетворенно гудит. Внутри наступил мир. Гастрономический халифат в отдельно взятой «Бирюсе».
А я его первый обращенный гражданин. Вот и приплыли.