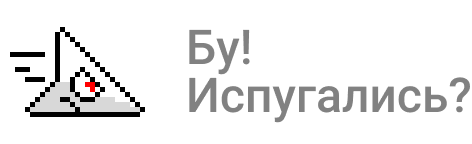Воспоминания. Их так много. Они как карточки в картотеке лежат себе по разным ящичкам в алфавитном порядке. Выдвинешь ящичек, проведёшь по запылившимся картонкам пальцем, выцепишь любую, и вот тебе целая история.
Прочтёшь и думаешь: ёпть! Вот, был бы ластик — стёрла бы, ненавижу их. И всё, что с ними связано. Но нет ластика, есть только память — архив жизненных передряг.
В комнате вместо стола — две табуретки. На них гроб. Вокруг гроба внуки. Мы со Светой у изголовья, смотрим печально на жёлтое лицо деда Васи. Скорбим. Как положено. Или пытаемся встроиться в происходящее. Смерть так непонятна, так далеко от нас и так близко. Вот, здесь, рядом, в этом деревянном ящике, обтянутом красным сатином.
На кровати у стены в чёрных платках сидят старухи, незнакомые, с потухшими глазами и выцветшей кожей. Перешёптываются, охают. Из них я знаю только бабу Любу и бабу Олю. Это наши со Светой родные бабушки. Они сидят, прижавшись плечом к плечу. О чём-то мирно беседуют. Смерть примиряет. Теперь я это знаю.
Стоять у гроба скучно, но отойти неудобно, да и пойти некуда. От нечего делать я начинаю осматривать комнату. Всё здесь знакомо с детства. Как и это прохудившееся кресло деда. Когда-то давно в плюшевой обивке, с лакированными ручками и ножками, оно выглядело богато-зажиточным. Было похоже на трон. Детьми мы дрались за право посидеть в нём. Теперь, несмотря на количество переминающегося с ноги на ногу народа в комнате, пустует. Никто в него не садится. Теперь кресло, как памятник. Как пустующий постамент. Через несколько лет после смерти хозяйки оно найдёт свой последний приют на помойке.
Над креслом деревянная коробка с прозрачной дверцей. За стеклом круглый циферблат с замершими на двенадцати тридцати стрелками. Это время смерти. Жизнь часов остановилась вместе с дедовой. Очень скоро часы «с боем» перекочуют к нам домой. Папа (в прошлом часовщик) много лет будет стараться завести их, но они так и будут застревать на двенадцати тридцати. А мы так больше никогда и не увидим покачивание медного диска-маятника и не услышим провожающего время боя старинных часов. Свой остаток существования часы проведут у родителей на балконе, где их сожрёт мелкая нечисть, оставив на полу трухлявую пыльцу источенного дерева.
За моей спиной сервант. Я вижу его в отражении зеркала. Зеркало завешено чёрной тканью. Так положено. Я вижу его в щёлочку, куда не добралось траурное полотно. В серванте синий фарфоровый графин в виде стоящей на жаберных плавниках рыбины. Задрав голову, рыбина старается проглотить золотистый шар. Вокруг сгрудились похожие на неё детки. Застыли, разинув рыбьи клювики. То, что это графин с рюмками — до меня доходит только сейчас.
Есть вещи, связующие поколения. Они передаются от отца сыну, переходят от бабушки к внучке. Этот «питейный» набор рыб после смерти бабы Любы двадцать лет простоит у моих родителей за стеклянной дверцей «стенки». Сейчас он стоит у меня дома за такой же стеклянной дверцей уже моей «стенки».
Взгляд снова возвращается к сидящим на кровати под огромной вышивкой бабушкам. Одну я люблю до обожания, другую… Не знаю. До сих пор не могу определить своё отношения к этой женщине. Не помню ни её тёплых объятий, ни нежных поцелуев, ни сказок, рассказанных на ночь, ни заботливых рук, шлёпающих банки на мою измученную бронхитным кашлем грудь. Это всё от той, другой бабушки, от маминой мамы. От папиной мне досталась только первая группа крови с отрицательным резусом и вот эти рыбки. Ну хоть что-то.
Когда я смотрю на бабу Олю, мой взгляд теплеет. Мне не хочется скорбеть по усопшему. Хочется сесть с ней рядом, обнять, чмокнуть в пухлую щёку. Хочется снять с неё этот чёрный платок, и погладить совсем ещё не седые волосы.
Я рассматриваю бабушку, её полное тело, втиснутое в зелёное кримпленовое пальто, улыбаюсь. Кримпленовое пальто! Ему уже, наверное, лет десять. Когда-то писк моды, оно провисело в бабушкином гардеробе всё это время почти ненадёванным. Берегла! Одевала по праздникам. А какие зимой праздники? Вот и сохранила. Моль кримплен не ест. Только фигура малость раздалась.
Я опускаю глаза на бабушкины ноги. Сколько помню, она всегда страдала болезнью ног. Много лет пыталась свести красное пятно, растянувшееся от ступни до колена, на левой ноге. Читала заговор от «рожи», мазала самодельной микстурой из просроченных таблеток, настоянных на спирте. Долго не сходившее пятно, уставшее от борьбы за своё существование, однажды прошло само по себе. Но ноги всё равно так и остались самым уязвимым местом её организма. Всегда больные, всегда опухшие. Зима — самый сложный период, распухшие ноги с трудом влезали в сапоги. Сейчас в толстых шерстяных чулках ноги кажутся огромными. И как только она втиснула их в эти сапожки?.. Я долго непонимающим взглядом всматриваюсь в то, что надето на бабы Олины ноги. Вижу лишь короткие чёрные голенища, выглядывающие… из носок. Из носок? Она надела носки поверх сапог?
Я толкаю Светку локтём в бок.
— Чего? — сердито шепчет мне на ухо Светка. У гроба разговаривать неприлично. Скорбеть надо молча.
— Посмотри на бабы Олины ноги.
Светка смотрит в указанном направлении. Её глаза расширяются, и вдруг она прыскает в кулак.
Вволю посмеяться мы позволим себе только по дороге с кладбища. Предусмотрительно отстав от процессии на приличное расстояние, мы, схватившись за животы, хохотали до слёз. После чего нам, конечно же, стало стыдно. Стыдно от того облегчения, которое мы испытали в ту минуту, и в котором долго не признавались друг другу.
Это уже потом, намного позже, начитавшись умной литературы, я узнаю, что, в общем-то, это нормальное явление, некий эмоциональный выброс психики, не справившейся с негативной нагрузкой.
Носки на ботинки бабушка надела, чтобы не поскользнуться. В тот день был сильный гололёд.
Полностью книгу читайте на Литрес, Ридеро и Амазон.