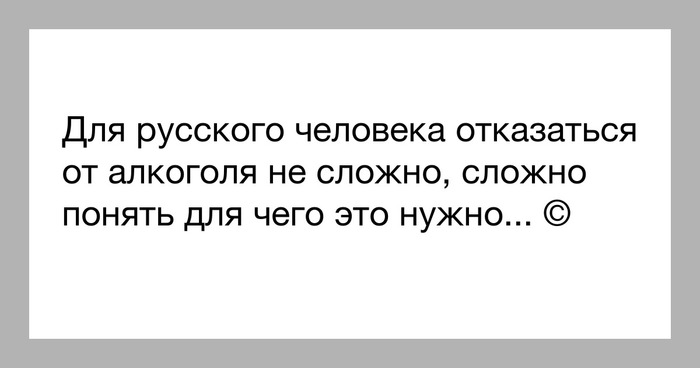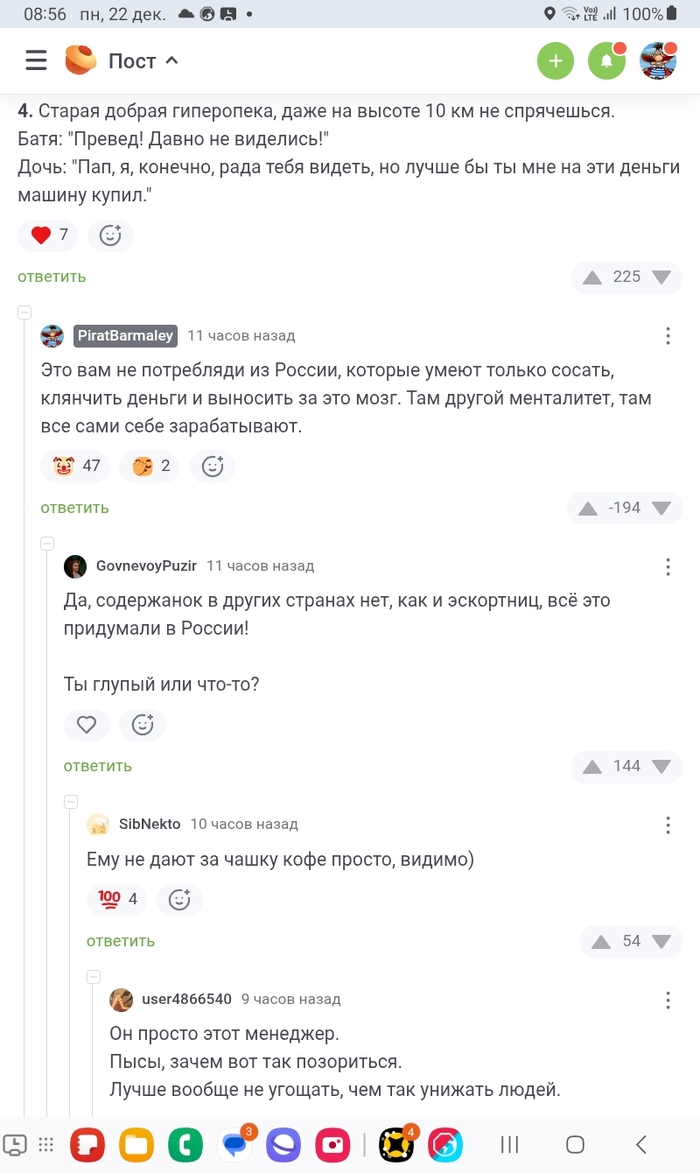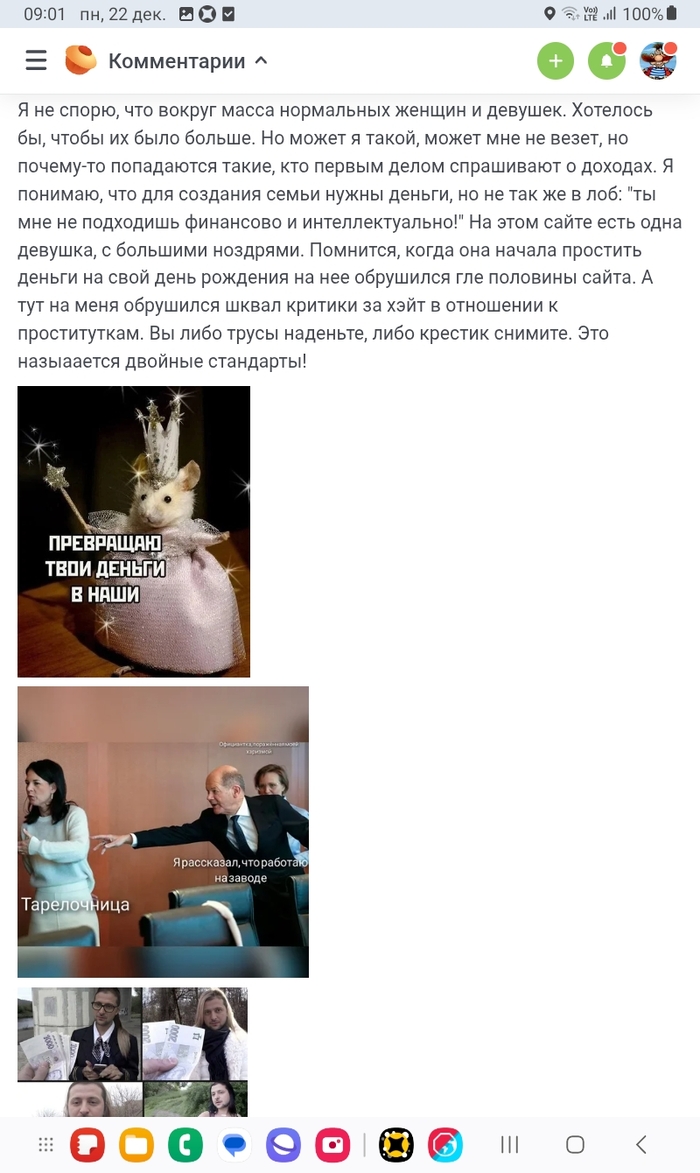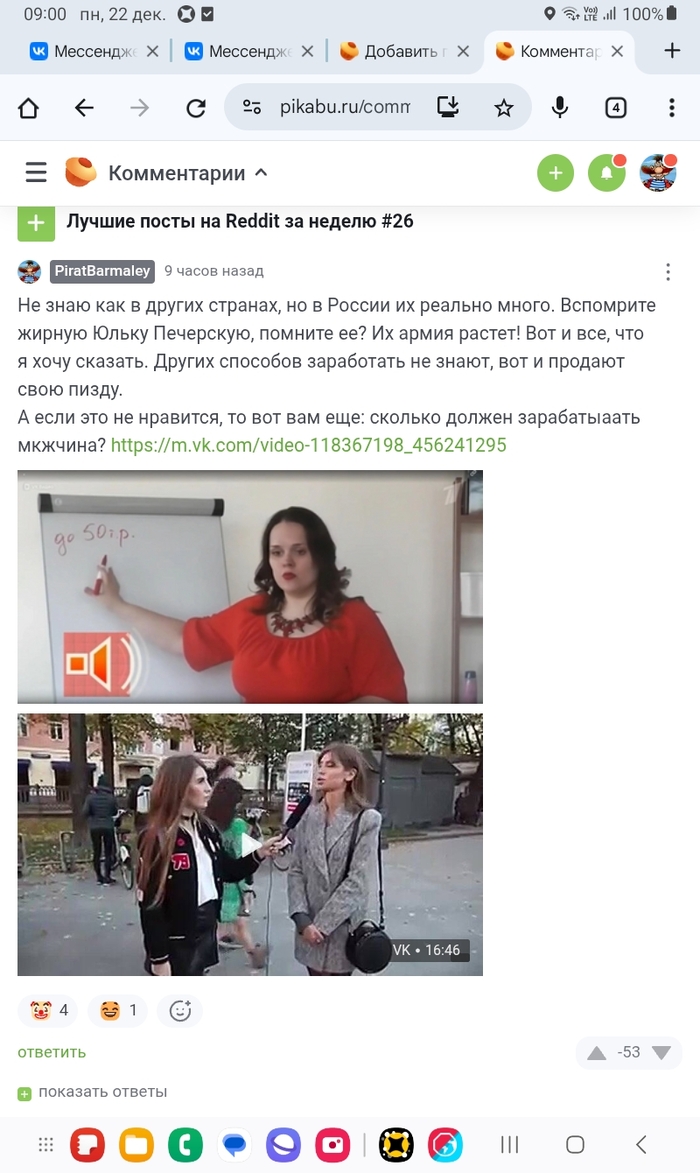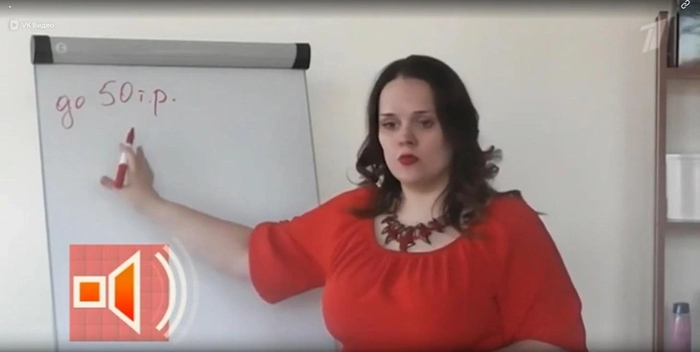Давнодцать лет назад я был другим человеком. Стандартный англичанин, который покорнослужно не выходил из ряда вон. Жил укутанным в так-положенной идентичности и не думал что-то поменять в своих заводских настройках.
В свои 22 года приехал к Вам в России. Ну, слегка из ряда вышел… Не знал чего ожидать, не знал какие вы, не знал как склонять 226 в родительном падеже знал только, что если хорошенько мямлить в конце каждого слово, то не заметят, что ты не знаешь падежные окончания.
И не знал кто я на самом деле. Примерно прикидывал, что англичанин, о-Вы-из-Англии такой. Не ел борщ ни разу, ни бутерброд (это Вам не сэндвич, молодой человек!) не слышал даже про пельмени и однажды их приготовил в духовке. Дух упал когда я видел результат и упали пельмени на пол когда открыл дверцу.
До приезда мне говорили “Россия страна экстримов и противоречий”. И все, отправили в Россию. Я приехал в пуховике в сентябре и узнал, что такое бабье лето. И что нельзя называть женщину “бабой”. Но бабушку можно так назвать.
В первых разговорах быстро понял, что я, вопреки своих стараний отличаюсь от русских. Русские от меня тоже отличались и предложили меньше отличаться. И вот началась моя русификация. Медленно, не без сопротивления, но непоколебимо.
“Слушай, давай, слушай, иди, ешь, скажи” и другие указы прилетели без остановки. Безо всяких. Мне было сложно, я бы предпочитал услышать “Извините, а не могли бы давать?”, но русские не любят условные предложения. Всё либо так либо нет, безусловно, малословно. Иногда просто говорили “пойдем”, будто решение уже принято, даже прикзазать не надо. Иногда говорят “Пошли!”, видимо означая, что судьба настолько решена-крешена, что будущее уже случилось.
Долгое время я просто соглашался с волей тех или иных русских. Они говорили так уверенно, мнения без сомнения, уверены, что верно предлагают. Ну и спорить в моей культуре не положено. Мои “might, maybe, could, probably” не интересовали русских. Либо да, либо нет, либо да нет. Не “ну, можно так, теоретически сяк” а “так!” “Именно так!”. Так-то лучше.
Только недавно я осознал, что мне тоже разрешено таким образом говорить и что это еще и приветствуется. Не объязательно надо быть тварем дрожащем, право имею! Не согласен, так и скажи! Только надо быть очень уверенным. Абсолютно уверенным. А чтобы быть абсолютно уверенным надо знать себя. Надо всегда знать ответ на вопрос “Ты чё?” в любой ситуации.
К счастью, русские любят выяснить кто ты такой, можно ли с тобой в поход, стоит ли иметь с тобой дело. Они как солнечный луч пронзили мутные омуты моей души и я увидел, что на дне - жаба. Это я себя не унижаю, я действительно был незрелым, недоделанным человеком. Хвалил свое болото, но нуждался в саморазвитие.
Я смотрел в русское зеркальце и нашел храбрость не пнуть его, а исправить кривую рожу.
Но жабу из пруда без работы не вытащишь, приходилось пережить много нерадостные инсайтов про себя, осмыслить свои убеждения, добавить ранее немыслимое в менталитет и относиться к этому как к родному.
Говорить прямо, быть искренним, наливать дамам напитки, снимать обувь у двери, порой говорить ‘тьфу’ три раза быстро, не шутить пошло, сидеть на дорогу, не сидеть на эскалаторе в метро, любить по-русски (с медведем за спиной), открыть дверь машины для дамы, пить чай без молока, улыбаться только при уважительной причине, не хамить, читать хорошие тосты на празднике, и снова - говори правду прямо - не ошибёшься.
И вот английская жаба очутилась в России и отучилась вредничать. Мой новый образ - не маска сверху, а выражение собственной истины. Порой еще вредничаю, иногда шучу пошло, изредка говорю не совсем прямо. Но в целом с благодарностью присвоил себе русский менталитет. Себе нравлюсь гораздо больше так. Так-то лучше!
Завтра закончится мой 20-й год в России, он был наполнен событиями, сложностями, радостями. Хороший год, благодарю Бога за возможность провести его с вами. Искренне надеюсь, что он дал Вам много.
Дорогие друзья, спасибо за возможность с вами общаться, желаю удачи, успехов, подарков, песни, пляски, оливье и шампусиков! С наступающим новым годом! ❤️🎄☃️❄️💃🕺🥂⭐️