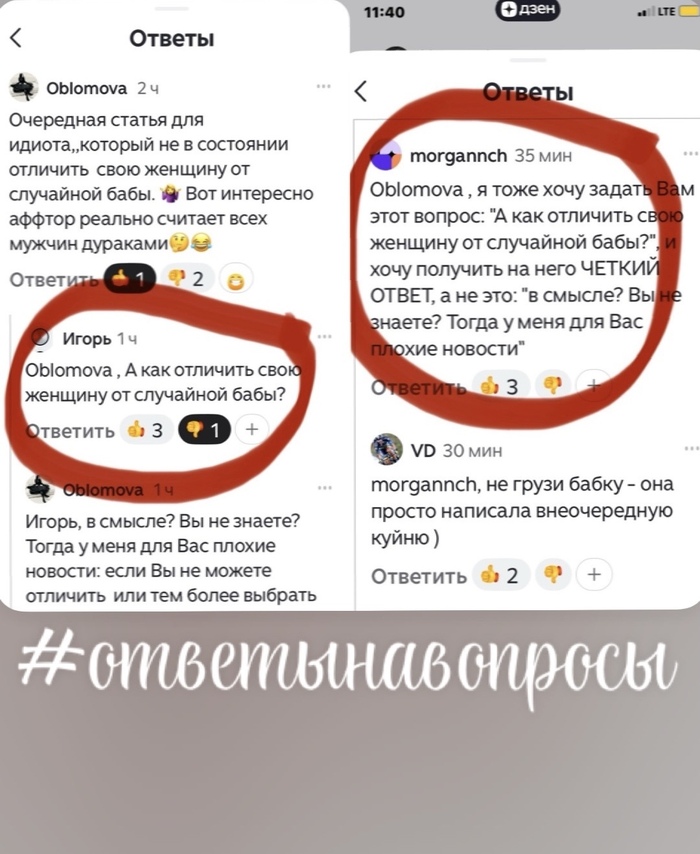13 июля 2017 года в Липецкой области пропал 3-летний Артём Кузнецов. Он был не в тайге, а в лугах рядом с родным селом. Его искали 7 дней. Сотни полицейских, кинологи, волонтёры «Лизы Алерт». Именно добровольцы, лучше всех экипированные и вооруженные рациями и квадрокоптерами, нашли мальчика. Поздно. Он умер от обезвоживания, пройдя 7 км.
Через несколько дней, 21 июля 2017 года, из цирка в Рязанской области сбежала обезьяна. На её поимку мгновенно выехал лично начальник областного МЧС. Были задействованы кинологи, полиция, волонтёры, беспилотник, легкомоторный самолёт и тепловизор. Животное нашли менее чем за сутки.
25 октября 2025 года в СНТ «Теремок» — менее пяти километров до границ Красноярска «по прямой» — стая собак нападает на 10-летнего ребенка и загрызает его насмерть. Тело с многочисленными укусами в этот же день находят проезжающие мимо люди.
Пока в верхах идут дискуссии о «целесообразности» и «гуманных методах», в регионах от зубов бездомных стай продолжают гибнуть и калечиться дети.
Создается впечатление, что жизнь животного важнее жизни ребенка, это происходит не потому, что люди стали любить детей меньше, а обезьян — больше.
Вот из-за чего возникает такая трагическая иллюзия:
1. Проблема «видимости» и простоты решения:
- С животным: Побег обезьяны из цирка — это конкретная, видимая и единичная задача. Есть четкая цель — поймать животное. Все понимают, кто отвечает (МЧС, полиция), и решение лежит на поверхности. Это позволяет быстро бросить все силы на «победу».
- С ребенком: Пропажа ребенка или гибель от стаи бродячих собак — это симптом глубоких системных проблем: плохой работы социальных служб, неэффективной организации поисков, пробелов в законодательстве о безнадзорных животных. Решить это «одной операцией» нельзя. Ответственность размыта между разными ведомствами, которые часто работают несогласованно.
2. Бюрократия и ответственность:
- За животное отвечает конкретный хозяин (цирк) или служба (отлов), и их задача — ликвидировать инцидент.
- За безопасность детей в целом отвечает «государство» — абстрактное и громоздкое. Нет одного человека, который получит выговор, если система даст сбой. Нет простого алгоритма, который срабатывает так же быстро, как вызов о «диком звере на свободе».
3. Психологический фактор:
- Простая история: История с обезьяной — это почти анекдот, «приключение». Её легко осветить в СМИ, она не требует от общества болезненного взгляда внутрь себя.
- Сложная и страшная правда: Гибель ребенка — это травма. Это заставляет задуматься о хрупкости жизни, о несовершенстве мира, о нашей общей уязвимости. Подсознательно людям проще сосредоточиться на простой и решаемой проблеме, чем признать существование хаотичной и страшной.
4. Во власть проникли «не те» люди:
- Простота и видимость «добра». Защита животных — это понятная и эмоционально заряженная тема. Можно добиться быстрых и видимых результатов (принять закон, остановить отлов), что создаёт иллюзию эффективной и «нравственной» работы. Решение же глубоких социальных проблем (бедность, насилие в семьях, пропажи людей) — сложно, требует колоссальных ресурсов и не даёт быстрых политических дивидендов.
- Экстремизм как форма самоидентификации. Радикальная защита прав животных для некоторых становится частью их идентичности, «религией». В этой системе координат человек — «венец природы» и «угнетатель», а значит, его интересы могут приноситься в жертву «невинным» существам. Это извращённая форма морального превосходства.
- Идеология как инструмент влияния. Некоторые политики и общественные деятели используют этот вопрос как удобный инструмент.
а. Создание «образа врага»: В роли врага выступают нерадивые хозяева, догхантеры, чиновники, не желающие выделять деньги на приюты. Это мобилизует электорат.
б. Имидж «прогрессивного и гуманного»: Поддержка таких инициатив позволяет позиционировать себя как современного, «европейского» политика, в отличие от «консерваторов», которые «недостаточно ценят природу».
Что происходит на практике?
1. Законодательный перекос. Принимаются законы, которые на практике не работают или даже вредят. Яркий пример — программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат), которая, по мнению многих экспертов, не решает проблему бродячих стай и создаёт угрозу для людей, но при этом активно лоббируется зоозащитными НКО.
2. Перераспределение ресурсов. Ограниченные бюджетные средства могут направляться на финансирование сомнительных программ с животными, в то время как на решение человеческих проблем (таких как оснащение поисково-спасательных служб, поддержка детских хосписов, помощь многодетным семьям) денег «не находится».
3. Давление на общество. Формируется атмосфера, где любое высказывание в защиту приоритета человеческой жизни немедленно клеймится как «жестокость» и «мракобесие». Это мешает вести конструктивный диалог.
Ответственность размазана между муниципалитетом, МЧС, полицией, соцслужбами, региональной властью. «Крайнего» найти почти невозможно. Система не наказывает за бездействие, а за перестраховку — наказывает. Должно быть понятно, какой конкретно орган (и даже должностное лицо) отвечает за отлов в каждом дворе, микрорайоне, населенном пункте. Создание единой диспетчерской службы, куда граждане могут сообщать о стаях, с обязательной обратной связью и отслеживанием заявки. Создание единого, хорошо оснащенного центра управления поисковыми операциями с законодательно закрепленным правом привлекать все необходимые ресурсы (МЧС, полиция, авиация) в кратчайшие сроки, без бюрократических проволочек.
Гибель ребенка: Глубокая травма для общества. Это заставляет задуматься о системных провалах, о собственной уязвимости. Такие темы тяжелы для восприятия, и СМИ часто от них шарахаются, кроме моментов пикового трагизма. Законодательно обязать СМИ освещать не только сам факт трагедии, но и ее системные причины и судебные процессы по ним.
Нужно вернуть в публичное поле простую и неудобную для некоторых мысль: Безопасность и жизнь человека — абсолютный приоритет.