
Птичка перелётная
7 постов

7 постов

9 постов
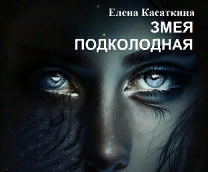
14 постов

3 поста

13 постов

5 постов

6 постов

7 постов

9 постов

6 постов

9 постов

10 постов
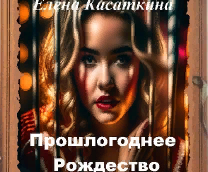
9 постов

12 постов
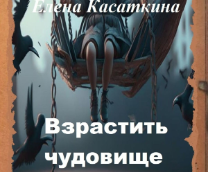
3 поста

12 постов
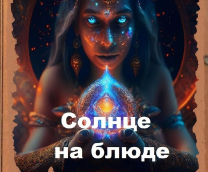
12 постов

8 постов

2 поста

6 постов

10 постов

16 постов

6 постов

3 поста

23 поста

1 пост

3 поста

7 постов
2 поста
Трудовое воспитание в советское время не ограничивалось уроками труда. Двухнедельный сбор урожая в начале учебного года — для нас продление каникул, а для тружеников села — существенная подмога. Привлекаются ученики с пятого по десятый класс.
Огромный школьный двор вмещает весь состав «тружеников», которые в ожидании автобусов развлекаются кто чем может. Наконец подъезжает автобус. Толкаясь локтями и вёдрами, мы занимаем заднюю площадку. Сваливаем сумки с провизией (обеденным перекусом) в проход, расставляем на площадке вёдра и усаживаемся на них. Час трясёмся, обдаваемые пылью и выхлопными газами, пока не прибываем к месту сбора урожая. На этот раз нас ждут созревшие к сентябрю томаты.
Автобус пыльно тормозит у кромки поля, и мы, похватав сумки и громыхая вёдрами, вываливаемся наружу. Разбиваемся на пары. Я оглядываюсь, Лёльки нигде нет. Но вот я замечаю её белобрысую голову, мелькающую в окне автобуса. Заглядываю в салон.
— Ты чего?
Лёлька, склонившись, что-то высматривает под сиденьями.
— Сумочка! Сумочка пропала!
Поднимает голову, и я вижу, как покраснело её лицо.
— Какая? С едой?
— Ну да.
Сумочку из лоскутов цветного кримплена Лёлька сшила сама на уроке труда. Яркие тряпочки мы стащили со швейной фабрики, куда нас водила на экскурсию учительница труда. Тогда Лёлька набила лоскутами лифчик, отчего её грудь прибавила пару размеров. Повторить Лёлькин «подвиг» я побоялась, моё участие в преступлении ограничилось прикрытием подруги.
Вахтёрше ничего о размере Лёлькиной груди известно не было, и вертушку проходной мы преодолели без каких-либо подозрений. Вот только учительница труда подозрительно прищурилась, когда Лёлька продемонстрировала ей сшитую из лоскутов сумочку, но промолчала и поставила Лёльке четвёрку.
— А ты куда её кинула? — Я тоже заглянула под кресла.
— Куда и все, туда! — Лёлька ткнула пальцем в пустой проход.
— Странно, — пожала я плечами.
— Вы чего там застряли? — завопила классная.
— Пошли, — тяну Лёльку за рукав. Нет её здесь. Кто-то прихватил по ошибке.
— По ошибке?! Её перепутать невозможно, — упирается Лёлька.
— Значит, найдётся.
Мы спрыгиваем со ступенек и догоняем одноклассников. Лёлька выразительно молчит, и это молчание выражает гнев.
— Да не психуй ты. У меня два бутера. Поделюсь. Накройняк помидорами доукомплектуем, — пытаюсь успокоить подругу.
— Там ещё вода и проездной. Но это всё фигня. Мне сумочку жалко.
— Да, сумочка зачётная. Думаешь, спёр кто?
— Нет, ноги у неё выросли, — злится Лёлька. — Сволочи!
Сумочка обнаружилась спустя месяц.
Мы дежурили. Задержавшись после уроков, отмыв доску и пол, мы вышли в коридор и остолбенели. Прямо перед нами, возле кабинета напротив, в груде портфелей и мешков для обуви лежала Лёлькина сумочка. Яркая, лоскутная, старательно обшитая жёлтой бахромой.
— Подожди. — Лёлька заталкивает меня назад в кабинет, прикрывает дверь и прилипает к оставленной щели. Последовав её примеру, я прилипаю рядом. Наконец дверь кабинета напротив открывается, из неё вылетает стайка ребят, разбирая свои портфели и мешки со сменкой. Сумочку никто не берёт. Последними из кабинета выходят училка Рогаткина и её дочь Наташка, которая подбирает портфель и Лёлькину сумочку.
Лёлька пинает ногой дверь, фурией вылетает в коридор и, подскочив к Наташке, хватает сшитое собственными руками изделие.
— Ааа… — кричит Наташка, намертво вцепившись в сумочку. На крик оборачивается Рогаткина, видит разыгравшуюся сцену, хватает зависшую между девчонками сумку, вырывает её и передаёт дочери.
— В чём дело? — кричит на Лёльку, негодуя Рогаткина.
— Это моя сумка! — кричит в ответ Лёлька.
— Как это твоя? — орёт Рогаткина. — Где доказательства?
— Я её сама сшила из кусочков!
— Из каких ещё кусочков? — надрывается Рогаткина, отчего её взбитая в шалаш причёска накреняется, готовая вот-вот рухнуть.
— Из тех, что я… я… — Лёлька начинает заикаться и замолкает.
— Нет у тебя никаких доказательств! — поправляя шалаш, успокаивается Рогаткина и вдвоём с дочерью и с Лёлькиной сумкой уходят.
На следующее утро возле кабинета Рогаткиной толпится детвора. Мальчишки ржут, девчонки фыркают. Из ручки двери торчит женская прокладка. Красные чернила даже вблизи очень похожи на кровь. Когда в коридоре появляется Рогаткина, гвалт стихает и все расступаются. Рогаткина останавливается перед дверью, её лицо становится похожим на помидор.
— Быстро убрать! — орёт Рогаткина, хватая первого попавшегося под руку пацана.
Мы с Лёлькой синхронно отворачиваемся и идём к себе в класс.
Большая перемена. Мы сидим в фойе первого этажа школы на деревянных откидных сидениях, грызём посыпанные сахаром коржики, запивая солёным томатным соком. На стене напротив приколот большой жёлтый лист. Афиша. На ней гигантскими буквами отпечатано «ЦЫПЛЁНОК ЧОК», кто-то шариковой ручкой дописал «-нутый». Мы давимся от смеха, расплёскивая вокруг себя томатный сок.
В дверях появляется Жосан. Имени его мы не знаем, все зовут его по фамилии — Жосан. Я вжимаюсь в плоскость кресла. Жосан месяц как освободился. Лёлька сказала, что сидел он за изнасилование, и это поселяет в моей душе, а тем паче теле — страх. Страх перерастает в ужас в тот момент, когда я ловлю на себе его заинтересованный взгляд.
— Здорово! — приветствует нас Жосан и, откинув деревянную сидушку, подсаживается ко мне.
Я давлюсь остатками коржика, отряхиваю фартук и поднимаюсь.
— Пошли, на физру опоздаем. — Хватаю Лёльку за руку и тащу к выходу.
Жосан громко ржёт нам вслед.
— Ещё увидимся.
На физру не пошли. Физкультура — не наш предмет. Спускаемся с Лёлькой в туалет и вынимаем из портфелей свёрнутые в рулет панталоны.
Каждый раз по утрам, натягивая голубые с начёсом штанишки, я канючила:
— Зачем они нужны?
— Надевай. Придёт время, ты мне ещё спасибо скажешь, — увещевала мать, строго следя, чтоб я ушла из дома полностью экипированной.
Перед началом занятий мы стягивали с себя панталоны и прятали в портфель, чтобы после уроков, чертыхаясь и ругая настойчивость матерей, снова натянуть ненавистные штанцы поверх колготок.
Лёлькины панталоны немного разошлись по швам.
— Дядька подарил. Когда мне исполнилось 10 лет. Прикинь, за праздничным столом торжественно вручил мне, с пожеланием хранить в тепле попу. Вот так и грею до сих пор. Они растут вместе с моей попой и сносу им, кажется, не будет.
— Они вечные, — с сарказмом поддержала я негодование подруги, — но вот резинки… — У советского белья, несмотря на всю добротность, был один минус — резинки быстро изнашивались и превращались в веревочку. — Чёрт! Ну что это?
— Затяни и завяжи, дома ножницами разрежешь.
Я последовала совету подруги и завязала резинку в толстую загогулину.
— Ты домой? — Лёлька отдёрнула подол формы, крутанулась. — Глянь, не видно? А то там ветрище.
— Не видно. Не, я ключи забыла, пойду в библиотеку, почитаю чего-нибудь, пока маман с работы придёт.
— Ну, тогда пока.
В читальном зале школьной библиотеки всегда уютно, а когда за окном непогода, то время за книжкой пролетает незаметно. Когда стрелка настенных часов приближается к золотистой четвёрке циферблата, я сдаю книгу и выхожу из библиотеки. В окне первого этажа замечаю фигуру Жосана. Он курит, сцепив сигарету кончиками большого и указательного пальцев, как это делают зеки. В те далёкие времена никому и в голову не приходило заводить в школе охрану, потому кто угодно мог беспрепятственно заходить и бродить по коридорам здания. Но сейчас Жосан стоит спиной к выходу и, если быстро проскользнуть за угол, то можно остаться незамеченной. Толкаю дверь! Несколько мгновений страха пройдены! Боясь оглянуться, несусь на всех порах в сторону железнодорожного вокзала, а там через мост и я дома. На пути разрытая траншея. Стараюсь перепрыгнуть, поднимаю ногу и от толчка в спину падаю в вывороченное нутро канавы. Жосан коршуном прыгает сверху, и мы начинаем кататься по дну траншеи. Сопротивлялась я отчаянно, но сил было недостаточно. Жосан вывернул мне руку за спину и, навалившись, прижал к земле. От боли я не могла дышать. Свободной рукой насильник задрал подол формы и попытался стянуть голубые панталоны, но резинка, намертво скреплённая загогулиной, не подавалась. Взвыв, Жосан вцепился в загогулину зубами. Он кусал её, скрежетал челюстью, грыз ненавистный узел, пытался разорвать зубами ткань, но советский трикотаж достойно отстаивал знак качества. Наконец, отчаявшись, Жосан встал, плюнул, пнул меня от души носком ботинка и полез наверх.
В тот день я впервые помолилась Богу и мысленно поблагодарила мать.
После того, как она увидела их сидящими так близко, что плечи и бёдра сомкнулись в лёгком касании словно в поцелуе, с ней случилась контузия. Или что-то в этом роде. Потому что она продолжала всё видеть и слышать, но не понимала, что происходит. Небольшой старенький томик Бродского в его руке. Её ресницы томно опущены, взгляд тонет в творческих исканиях поэта русской культуры. Пошлая картинка о возвышенной любви, трепетной нежности и… подлой измене.
«Вместе они любили сидеть на склоне холма. Оттуда видны им были церковь, сады, тюрьма. Оттуда они видали заросший водой водоём. Сбросив в песок сандалии, сидели они вдвоём».
Ксюша сбросила сандалии, и её ноги утонули в песке. Ну что ж, лечи подобное подобным. Ни тюрьмы, ни церкви, но остальное всё, как по заказу: заросший водоём, осока с неё ростом, склон холма с другой стороны. «А тюрьму и церковь — символы любви и брака…, — Ксюша зло усмехнулась, вспомнив приглашение на свадьбу, которое полетело в мусорное ведро вместе с кошачьим туалетом, — … потом нарисую».
Откинув косу за плечи, вынула из сумки клеёнчатое сиденье, бросила на песок, достала альбом и краски…
Сзади послышался шорох и через минуту из кустов вывалился человек. Мужчина дёргал непослушными руками ремень на брюках и нервно сжимал коленки. Его смешно покачивало в разные стороны. При каждом шаге заносило. Он пытался справиться со своим состоянием, но состояние не слушалось, кренило в бок, угрожая падением. Однако падения не происходило, в последний момент мужчина успевал-таки коряво выставить ногу вперёд, и его тут же отбрасывало в другую сторону.
— О! — пьяный визитёр наконец-то заметил девушку. — Ты чего тут… — пробухтел, вращая кашу во рту.
Ответить Ксюша не успела. Мужчина, схватив рукой мотню, согнулся в странный полубоковой угол и, медленно подняв ногу, шагнул. Раз, другой. Он торопился. Он, как сам, наверное, думал, бежал, и этот бег был настолько комичным, что Ксюша громко рассмеялась ему вслед.
Когда хаотично передвигающаяся фигура исчезла из виду, девушка достала из коробки карандаш и принялась делать набросок. Руки будто ждали этого момента, будто соскучились. Линии получались точные, выверенные. Удалось передать и дуновение ветерка, и направление течения. Ксюша достала бутылочку с водой, облила ею лист, остатки вылила в стаканчик, обмакнула в него кисти, открыла краски. Какой цвет выбрать первым? Для неё это всегда был самый трудный момент — угадать.
Всё-таки розовый. Им оттенить все остальные.
Это было здорово. С самого первого касания кисти к бумаге, она забыла обо всём. Где-то там, в совершенно другом мире, остались и горечь разочарования, и муки обиды. Всё это теперь не имело никакого значения. Она творила.
— Зачем мне это? Я собираюсь стать врачом, а не художником, — оправдывалась Ксюша, когда выяснилось, что она прогуливает занятия в художественной школе.
— Нет, ты будешь ходить, — настаивала мать. — Я за что деньги плачу?
— Так не плати.
— Что значит — не плати, что значит — брошу? Четыре года проучиться и бросить за полгода до окончания? Нет, ты будешь ходить. Хотя бы ради «корочки». Я теперь сама тебя буду сопровождать, как маленькую.
— Ну вот ещё.
— А вот так. — Мать хлопнула рукой по столешнице, а это означало, что настроена она серьёзно и лучше ей не перечить. Ксюша отвернулась к окну. — Ты мне ещё спасибо скажешь. Вот увидишь. Никогда не знаешь, где и что тебе может в жизни пригодиться.
Вот и пригодилось. Спасибо, мама.
Сзади снова зашуршало.
Да что ж он всё не угомонится?
К шуршанию добавился тонкий противный писк, как будто кто-то водил пенопластом по стеклу.
Что это? Плеск воды, может где-то рыба…
Она не успела додумать. Резкая боль в затылке, и слёзы брызнули из глаз. Она вскрикнула, на миг стало легче, её отпустили. Что-то мелькнуло перед глазами и обвило шею, дыхание перехватило, сердце затрепыхалось и… успокоилось.
Каждый раз в начале смены Генка, проходя мимо Симы, старается её ущипнуть. Да что там старается. Подкрадётся незаметно сзади и хвать за какое-нибудь место, так что Сима от неожиданности вскрикнет, подпрыгнет и зальётся алой краской. Что только она не делала: и бутылкой пластиковой с водой его лупила, и начальнику Егорову жаловалась — ничего противного мужика не останавливало. Сказать мужу боялась, муж у неё ревнивый и ревность его, в первую очередь, направлена на саму Симу. Её же и обвинит, скажет, что это она сама виновата — крутит задом перед мужиками. Думала Сима, думала, как с гадким Тарасовым справиться и решилась на отчаянный шаг.
В этот раз она была начеку, Тарасова косым взглядом издали приметила и специально к нему задом развернулась, вроде как не видит она его. Услышав позади шаги, приготовилась. Угадать, за что в этот раз ухватится Генкина рука невозможно, ну да ладно, тут главное самой не промахнуться.
Только успела Сима об этом подумать, как на грудь опустилась тяжёлая Генкина лапа, нагло прошлась по пышной округлости и бесстыдно сжала её. Тут уж Сима не выдержала и, развернувшись, схватила срамника за причинное место. Да так удачно схватила, что всё его мужское достоинство уместилось в её ладонь. От неожиданности Генка выпустил Симкину грудь и, выкатив из орбит глаза, заорал на весь цех благим матом. Но Сима и не думала его отпускать, держала крепко, так и протащила по всему цеху на глазах у заливающихся дружным смехом коллег. А в конце смены вызвал её к себе в кабинет начальник и давай песочить. Да что она себе позволяет, и как так можно. Противно Серафиме стало, выходит, на её жалобы Егоров не реагировал, а тут, значит, о чести заговорил. Вот она — мужская солидарность.
— Придётся, Серафима Андреевна, применить к вам меры дисциплинарного взыскания в виде лишения квартальной премии.
— Чего? — вспыхнула в негодовании Сима. — За что?
— За неумение разрешить конфликт мирным путём.
— Мирным? Это как?
— Ну как как… полюбовно. Могла бы просто ему сказать: сегодня я не хочу. Он бы мимо и прошёл, и было бы всё ништяк, — неожиданно перешёл с официального языка на дворовый сленг начальник. — Что вы за народ такой — бабы, всегда говорите, когда не надо, а когда надо — молчите, как партизанки. Всё, иди и подумай над своим поведением.
— Но как же так, Григорий Алексеич, я же вам сколько раз жаловалась на его приставания, вы же ни разу не отреагировали.
— А на что я должен был реагировать? Подумаешь, ущипнул пару раз. Ты ж баба аппетитная, прям булка сдобная, как мимо тебя пройти молодому мужику и не ущипнуть. Сама должна понимать. Это всё равно как за косички в школе… Тебя что, за косички никогда не дёргали?
— Дёргали, — промямлила Сима, совершенно потерявшись от подобной логики.
— Ну вот. Радоваться должна. Ибо не будь у тебя косичек… эээ… то есть этих… ну сама понимаешь… тебя бы попросту проигнорировали. Так что сама и виновата.
— А премия? — обречённо поинтересовалась Серафима.
— А премию твою отдадим Тарасову, как компенсацию за моральный ущерб.
Он всегда нападает ночью. Он жесток и коварен. Безжалостен и неуловим. Его удушающий захват смертелен. Поймать его почти невозможно, но у следователя Елены Рязанцевой свои счёты с безжалостным зверем.
На табуретке рядом с книгой тарелка серого месива, такого же серого, как и её жизнь, и такого же безвкусного. Лида приподнимает алюминиевую ложку, слипшийся комок повисает под выпуклой ложбинкой и шмякается назад в тарелку. Есть хочется очень, очень, но не эту блеклую бурду.
— Ешь, говорю. Другого ничего нет. А откуда возьмётся? На какие шиши?
Мать хлопает дверью. Шишей нет. Лида знает. Но знает она и о том, что сердобольные соседи жалеют её и делятся своим дачным урожаем. Кто помидоры принесёт, кто огурцы.
Лида слышит, как звякает звонок, бряцает цепочка и раздаются приглушённые голоса.
— Вот, Марьяна, это для Лиды и Кирюшки. Смотри, какие спелые. Ты не подумай, это не падалица, Володя сам с дерева снимал. Много в этом году уродилось, пять вёдер сняли. Повидла наварю на всю зиму. А вот одно ведро решили вам занести, порадовать твоих. Я самые лучшие выбрала и самые спелые. Ты не держи, пусть сразу едят, а я вам завтра яблок принесу.
Грохнула входная дверь и в прихожей стало тихо.
На ужин мать принесла ей пшённую кашу, кусок хлеба и молочный кисель.
— Это всё? — холодно спросила Лида, и мать, делая вид, что запамятовала, проковыляла на кухню и, вернувшись, положила на табурет жёлтую грушу.
— Вот. Гостинец, от тёти Оли.
Вот оно, счастье. Лида хватает аппетитный плод и вгрызается в него зубами с такой силой, что сочный нектар вместе с кашеобразным нутром просачивается из уголков рта и соскальзывает на подбородок.
В оконное стекло закрытой двери балкона билась головой оса, позади роились её полосатые сородичи. Лида внимательно следила за потерявшими ориентир насекомыми. Они были пьяны. Пробуравливая отверстия в гладкой кожуре плодов, осы чавкали грушёвую мякоть, жужжали от удовольствия, а насытившись, взлетали вверх. Осы были жадны и ненасытны.
Лида долго смотрела на бившуюся в стекло осу, потом протянула руку и опёрлась о табуретку. Икона Божьей Матери покачнулась, но устояла. «Помоги, матушка!» — прошептала Лида и передвинула верхнюю часть туловища на самый край кровати. Опрокинув на пол руку, упёрлась ладошкой в пол и медленно съехала с кровати. Непослушные ноги грохнулись следом на деревянный настил пола. Вот так! Дома никого, мать ушла в магазин, и как минимум час времени у неё есть. Опираясь на руки, она поползла к балконной двери. Отталкиваясь руками и подтягивая ноги, Лида доползла до балконной двери, приподнялась на порожек и толкнула створку. Свежий осенний воздух ворвался в комнату вместе с жужжанием ос и медовым ароматом груш. Лида дотянулась рукой до ведра и, не обращая внимания на недовольство и агрессию насекомых, схватила широкой ладонью три груши. Засунула их в вырез на груди ночной сорочки, снова опустила руку в ведро и достала ещё три. Запихнула туда же. Подумала, с тоской посмотрела на оставшиеся и повернула обратно.
Назад ползла осторожно, взбунтовавшиеся осы кружили над её голыми ногами, вонзали в них свои острые жала, но Лида ничего не чувствовала. Уже возле кровати она перевернулась, села, опершись спиной о край, вынула из выреза помятые груши и стала поглощать одну за другой.
Она ела с таким упоением, что не услышала, как стукнула входная дверь. К моменту, когда мать вошла в комнату, она доедала последний плод. Рот, щёки, подбородок и даже грудь были вымазаны грушёвой мякотью.
— Смотри-ка, — мать зло бросила пакет с купленной снедью на пол. — Ну раз тебе полегчало, значит будешь сама справляться со своими проблемами. — Подобрала пакет и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью.
На следующий день мать притащила откуда-то костыли, швырнула Лиде на кровать.
— Вот, Тамара отдала. После её мужа остались.
Костыли были неудобными, они не подходили Лиде по росту, воняли чужим потом и пылью, но Лида молчала, стягивала ноги с кровати, садилась, ставила перед собой сначала один, подтягивалась, просовывала в подмышку, опиралась, брала другой, ставила его рядом, наваливалась второй подмышкой, медленно приподымалась. Так изо дня в день, по чуть-чуть, под присмотром Богородицы, Лида научилась ковылять сначала до двери, а потом и за пределы комнаты. Через месяц мать отправила её в ту самую квартиру, из которой Лида вышла год назад за бутылкой водки.
Гул голосов из открытого окна становился всё громче, что свидетельствовало об изрядной степени подпития компании. Вечеринка была в самом разгаре, увлекательность беседы только набирала обороты, но вот незадача — как-то неожиданно закончился алкоголь. Лида посмотрела на часы и ойкнула.
— До закрытия десять минут осталось. Не успею.
— Какие проблемы? — растягивая слова, произнёс высокий брюнет со странным именем Гела. — Я на машине. Довезу за три минуты.
— Ты же пьяный? — попыталась призвать к благоразумию Лида.
— И что? До ближайшего магазина не больше ста метров. Вряд ли гаишников встретим. Поехали. — Парень, пошатываясь, направился к выходу, увлекая Лиду за собой.
Лида сама дёрнула заднюю дверцу и плюхнулась на сиденье, застеленное старым «персидским» ковром.
— С ветерком поедем, — подмигнул в зеркало заднего вида Гела и направил его так, чтоб в отражение был виден глубокий вырез сиреневой кофточки, в которой теснилась мягкая пухлая Лидина грудь.
Автомобиль крякнул, хрюкнул, чихнул, задрожал и сорвался с места.
Двадцатью минутами ранее местный алкаш Борька Ковригин, будучи на мели и очень голодным, выковырял из асфальта чугунную крышку канализации с намерением сдать её в пункт приёма металлолома и получить за это причитающееся вознаграждение. Крышка оказалась ему по плечу только первые 10 минут. Выковырять — выковырял, но сил дотащить до нужного места не хватило. Почесав плешивый затылок, Борька отправился за подмогой.
В этот самый открытый люк и угодило колесо старой девятки. Провалившись в отверстие, машина накренилась и уже хотела остановиться, но, проглядевший яму Гела решил по-другому и впечатал подошву ботинка в педаль газа со всей пролетарской ненавистью. «Девятка» дёрнулась, взлетела и закружила каруселью.
Очнулась Лида в больнице. Первое, что она увидела перед собой, была её собственная замотанная бинтом и вздёрнутая вверх нога. Лида попробовала ею пошевелить, но не смогла, крепкий гипс держал ногу в надёжном заточении. Зато дрогнула и заколыхалась сзади привязанная к верёвке гиря. Потом приходил врач, и другой врач, и много других врачей, они смотрели, щупали, качали седыми головами. Из всего, что они говорили, Лида поняла лишь то, что тазобедренная кость каким-то образом вонзилась в малый таз да так, что вытащить её оттуда никак не удаётся. А может и не так, Лида плохо разбиралась в анатомии.
Однажды в палату вошёл ещё один врач. Этот не был седым, а может и был, определить не представлялось возможным, так как врач был лысым. Белая шапочка сидела на торчащих, как у Чебурашки ушах, смятым куличом.
«Он пришёл, чтобы вынести мне приговор», — сразу подумала Лида и оказалась права.
— Ходить не сможешь, привыкни к этой мысли, — безапелляционно заявил врач и чихнул. — Вот. Правда.
