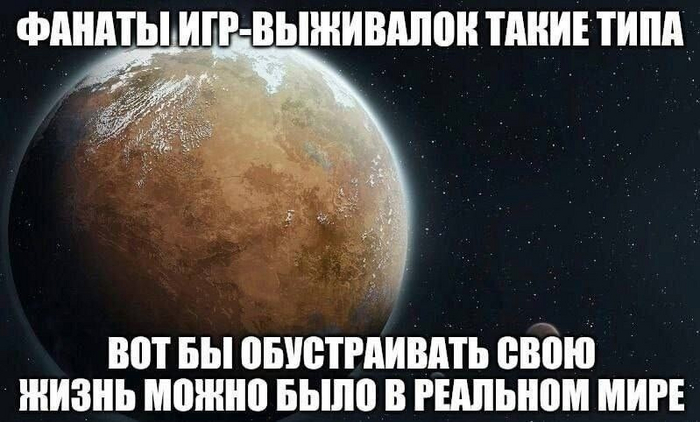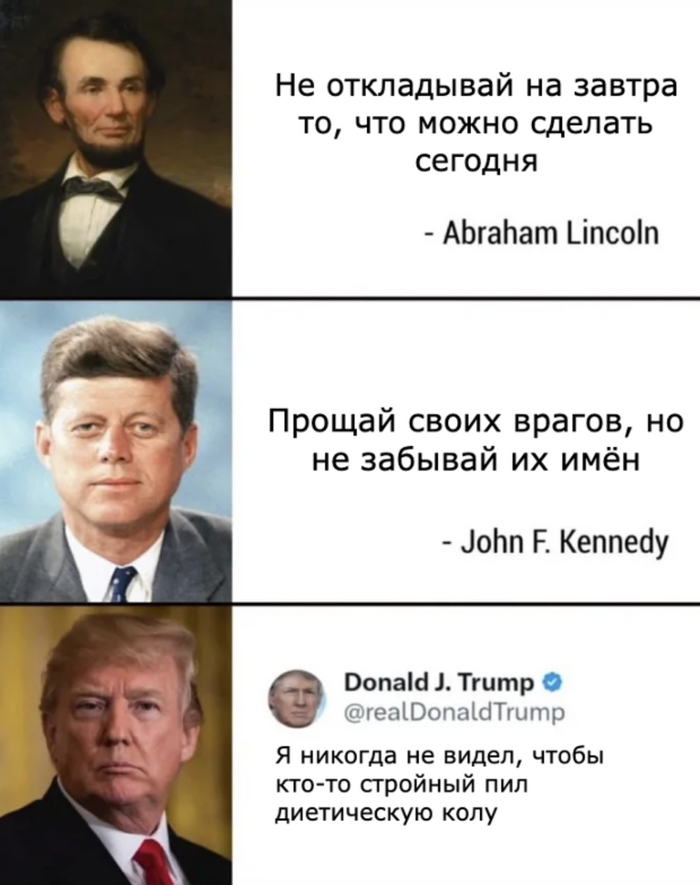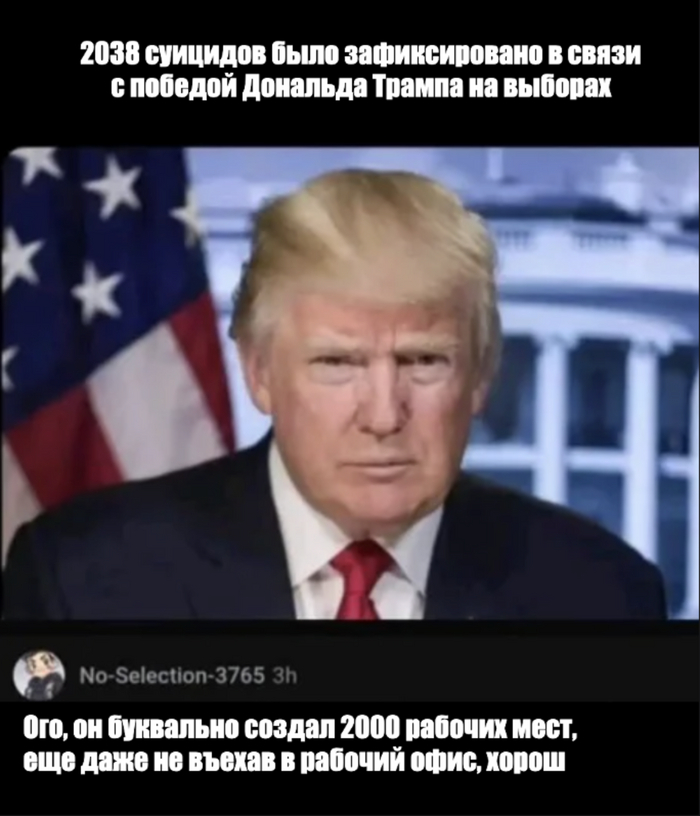SlavStyag
Смеюсь с картинок в интернете
105К
рейтинг
15 подписчиков
9 подписок
68 постов
31 в горячем
Демократия и выборы4
Почему сторонники Демократической партии в США сейчас так бесятся?
Ведь произошла демократия - большинство сделало свой выбор, разве не за это они борятся?