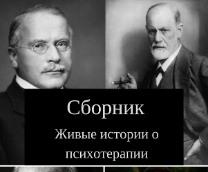
Живые истории о психотерапии
18 постов
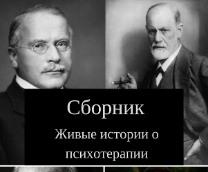
18 постов
9 постов
Эту историю Фредерик Перлз рассказал в своей книге «Внутри и вне помойного ведра».
***
Когда Перлз жил и работал в Южной Африке, гитлеровский корпус вошёл в Северную Африку. Фредерик и несколько его товарищей хотели помогать пострадавшим от войны и в итоге стали врачами-офицерами. Эта история происходила в одном из госпиталей южноафриканской армии где-то между 1942 и 1946 годами.
Один из пациентов Перлза страдал от болезненных рубцов, которые покрывали всё тело. Они остались после концентрационного лагеря. А в глазах пациента застыло выражение глубокого отчаяния.
Врачи в госпитале не обладали необходимым для длительной психотерапии временем. Поэтому Перлз дал своему пациенту пентотал и, вспомнив, что он был в лагере смерти, начал говорить с ним на немецком языке. Это погрузило пациента в болезненные воспоминания прошлого. Он долго плакал, изливая всю ту боль, что хранил в своём сердце и под своей кожей. А когда остановился, то испытал ощущение свободы – наконец он в полной мере покинул концентрационный лагерь не только телом, но и душой. Болезненные рубцы исчезли вместе с психическими страданиями!
Как пишет Фредерик Перлз про этот случай: «Показательные исцеления, аналогичные этому, крайне редки и обычно приходится делать много тяжелой, нудной работы».
***
Мне нравится эта история не только волшебным, быстрым исцелением, но и ещё по двум причинам. Во-первых, даже сейчас многие специалисты, как медики, так и психотерапевты, считают невозможным полноценную психосоматическую работу с органическими повреждениями тела, в результате которой эти повреждения излечиваются. Однако это возможно, и подобные случаи не так уж редко встречаются в практике.
Во-вторых, эта история отлично показывает направление психосоматической работы (которая обычно более продолжительна по времени, чем в рассказе Перлза): от телесного симптома к стоящему за ним заблокированному психическому переживанию. От заблокированного переживания к его осознанию, проживанию и выражению.
Телесные недуги часто в символической форме выражают психические процессы. Различные рубцы, шрамы нередко являются «зарубками» на память о важных событиях прошлого, которые не были полноценно прожиты. В истории Перлза пациент не прожил свой опыт пребывания в концентрационном лагере. Он словно застрял своей душой в прошлом, что выражалось застывшим отчаянием в его глазах.
Работа с Перлзом позволила прожить болезненный опыт, избавиться от рубцов на коже и, самое главное, вернуться в настоящее.
Отрывок из книги Лесмана Артёма "Живые истории о психотерапии"
Мой телеграмм канал - https://t.me/wayofheart
Эту историю Фредерик Перлз, известный психотерапевт, основатель гештальт-терапии, рассказал в своей книге «Внутри и вне помойного ведра».
***
Однажды Перлз работал со скрипачом, который хотел стать солистом. Всё было хорошо, пока тот играл в оркестре. Но через 15 минут после того, как он начинал солировать, в его левой руке развивался спазм. Все неврологические обследования, которые проходил скрипач, дали отрицательный результат. Так что очевидно – дело было в психосоматике и требовалась психотерапевтическая работа.
Случай скрипача был примечателен тем, что на момент начала работы с Перлзом он уже 27 лет проходил психоанализ у шести различных аналитиков! За это время, естественно, в психотерапии были многократно пройдены все аспекты эдипова комплекса, рассмотрены все нюансы первых лет жизни и ранних отношений с родителями… но приблизиться к решению проблемы со спазмом в левой руке так и не удалось.
Когда скрипач пришёл к Перлзу, как опытный пациент психоаналитика, он сразу же пошёл к кушетке, но Фредерик остановил его и попросил принести скрипку.
— Зачем? – спросил скрипач.
— Я хочу увидеть, как вам удалось создать спазм. – ответил Перлз.
Скрипач принёс скрипку. Встал, опираясь на правую ногу, при этом левой ногой обвивая правую. 10 минут он великолепно играл, после чего начал немного покачиваться. В течении нескольких следующих минут амплитуда покачивания увеличилась, движения пальцев замедлились, ноты стали исполнятся неаккуратно, пропала красота звучания мелодии и скрипач прервал игру.
— Вы видите? – сказал он – Становится трудно. Если я заставлю себя продолжать, разовьётся спазм, и я не смогу играть совсем.
— И у вас никогда не бывает спазм, когда вы играете в оркестре?
— Никогда.
— Вы сидите?
— Конечно, но как солист я должен стоять.
Перлз размял руки скрипачу и попросил встать, поставив ноги раздельно, слегка согнув в коленях. А после предложил опять сыграть на скрипке. Через 20 минут потрясающей игры, на глазах скрипача появились слёзы. Он повторял: «Я не хочу поверить, я не могу поверить…».
Сеанс закончился, но Перлз позволил ему ещё играть. Это было слишком важно!
***
Давайте немного посчитаем. Классический психоанализ – это 50-минутные сессии 3-5 раз в неделю. Таким образом, на психоанализ скрипача ушло приблизительно от 3500 до 5800 часов чистого времени. Наверняка во время такого длительного анализа мужчина сумел поработать со многими темами, но спазм в левой руке так и остался неразрешённой проблемой. Проблемой, которую Перлз помог разрешить чуть более чем за 1 час (позже Перлз встречался со скрипачом несколько раз для работы с уже другими запросами).
Я не хочу сказать, что психоанализ плох, а гештальт – это мега-инструмент. Мне кажется, эта история про другое – про догматичность. Те шесть психоаналитиков, которые работали со скрипачом, были скованны своим подходом, технологией анализа и аналитическим мировоззрением настолько, что даже не заинтересовались очевидной вещью – чем был вызван этот спазм и как именно он развивался.
Ещё эта история, на мой взгляд, про то, как часто мы пытаемся разобраться с глубинами, найти первопричины, всё понять и осознать тогда, когда решить проблему можно простыми и очевидными действиями.
Отрывок из книги Лесмана Артёма "Живые истории о психотерапии"
Мой телеграмм канал - https://t.me/wayofheart
В продолжении разговора про паузы и реальность, хочу поделиться набором моих историй из армейской жизни, записанных много лет назад.
Во всех этих историях я в той или иной степени спонтанно проживал паузы и связанную с ними «остановку мира».
***
На днях вспоминал армию и понял, что это время для меня было богато на моменты глубокого контакта с реальностью. Думаю потому, что нигде я не встречал такой концентрации абсурда, условностей, а подчас и откровенного бреда, который невозможно было игнорировать.
Хочу поделиться 13-ю зарисовками из армейской жизни, в которых реальность достучалась до моего осознания. Истории опишу в хронологическом порядке.
Айкидо и прощание
Перед армией я достаточно плотно занимался Айкидо. И в ночь, перед отправкой в армию, я также был на тренировке. Мой сенсей знал, как, впрочем, и все остальные в группе, что это последнее моё занятие. В конце занятия, когда мы сидели в сейдза (традиционный японский способ сидеть на полу), он сказал несколько напутственных слов и начал попеременно хлопать ладонями по полу. Одновременно вместе с ним этот жест начали повторять все остальные участники группы.
Не знаю, что это было. Я давно занимался в этой группе и у этого сенсея, но ни разу такого не видел. Для меня это было небольшим чудом. Это момент, в котором для меня концентрированно смешалось всё – радость, грусть, уважение, признание, боль, отчаяние, восторг… Помню как слёзы тогда текли из моих глаз.
Пошутили и хватит
Я приехал с вещами в назначенное время в военкомат Сергиев Посада. У военкомата уже толпились пьяные подростки – несколько призывников и большая толпа провожающих. Кто-то выяснял отношения, кто-то дрался, кто-то блевал в сторонке. Мне кажется, я единственный был без провожающих друзей и абсолютно трезвым.
Нас, призывников, провели на территорию военкомата и кое-как отбили попытки пьяных провожающих попасть за ворота. Дальше нам выдали папки с нашими делами, посадили в маршрутку, которая поехала в Железнодорожный – на распределительный пункт.
И вот картина. Мы едем. Половина дороги уже позади. Почти все пьяны до невозможности. И кто-то из призывников на всю маршрутку водителю: «Шеееф, пошутили и хватит. Разворачивай машину». Те из нас, кто мог понять шутку, засмеялись смехом, в котором много что сплелось.
Бег под ливнем
Эта небольшая зарисовка произошла уже на распределительном пункте. Туда завезли со всей Москвы и Московской области кучу призывников. И туда же приезжали «покупатели» из разных военных подразделений России. «Покупатели» — это представители армейских частей, которые приезжали за необходимым им числом будущих солдат и выбирали их из имеющихся призывников на распределительном пункте.
И вот несколько сотен подростков кучкуются на плацу. Изредка приходят офицеры, выкрикивают фамилии, набирают несколько человек и уводят их в некоем подобие строя. Всё это происходит медленно, время тянется.
В один момент этого мероприятия внезапно начинается сильнейший ливень. Все начинают бежать в ближайшее здание. Несколько сотен человек. Одновременно. И я среди них. В общем потоке.
Я помню, как в этот момент ощутил струящуюся во мне жизнь. Как наблюдал всё происходящее как бы со стороны и одновременно был активным участников происходящего. Как я почувствовал радость и восторг.
Дневальный на тумбочке
Меня и группу товарищей выбрали «покупатели» и мы отправились в путешествие.
После нескольких дней скитаний я попал в Нижний Новгород, где должен был проходить КМБ (курс молодого бойца) в РДР (разведывательно-десантной роте).
Нас заводят строем в расположение части, мы заходим в казарму. И первое, что я вижу – дневального на тумбочке, который во всё горло орёт «дежурный по роте на выход».
В этом крике было что-то для меня невероятное, не человеческое… обесчеловеченное. Я раньше никогда не слышал, чтобы люди кричали так, буквально всем своим существом. Я не мог поверить, что так бывает, что эта казарма на ближайшее время станет моим домом, и что я так же буду стоять на тумбочке и орать. Это совершенно не соответствовало всей моей предшествующей жизни.
Лейтенант и зажигалка
Мы в казарме. Местные сержанты и лейтенант развлекаются командами «смирно», «равняйсь», «вольно». Иногда командуют принять упор лёжа и ведут счёт отжиманиям, иногда командуют приседания. Их лица сияют радостью, они наслаждаются своей властью над новобранцами.
В разгаре этой забавы, когда нам скомандовали «смирно» и мы в таком положении стояли уже достаточно длительное время, ко мне подошёл лейтенант. Он придирался к тому, что я недостаточно высоко задирал голову. Как-то пытался меня оскорблять и угрожать. И в какой-то момент достал зажигалку и поднёс к моей шее, обещая оставить мне ожог.
Я стоял молча, высоко закинув голову и слушал его. Он мне казался таким малышом, стремящимся как-то подчеркнуть свою важность. У меня не было ни сожаления, ни высокомерия, ни страха. Я понимал, что он не настоящий. Что он потерялся в своих играх.
Лейтенант же подержал некоторое время зажжённую зажигалку рядом с моей шеей, потом внезапно её убрал и сказал какие-то слова уважения моей смелости.
Остановка мира
Эта история так же произошла на КМБ, но несколько недель спустя. Я уже знал, что и как здесь происходит, что я могу делать, а чего делать не стоит. Эта действительность уже начала становиться моей и я начал погружаться в рутину происходящего.
Я шёл по казарме по каким-то делам. Дела там у нас были всё время.
Я внезапно остановился и сел на табуретку. Я видел, как сотня солдат занята какими-то делами. Как каждый погружён в свои переживания. И я посреди всего этого муравейника – часть его и в то же самое время отдельно. Я ощутил всю искусственность и ненастоящесть происходящего.
Казалось, что эта действительность лишь маска на лице реальности, столь тонкая, что может в любой момент порваться и откроется совсем другой мир.
Песок и дзэн
Эта зарисовка произошла существенно позже. После КМБ я попал в медбат. И, несколько дней пробыв в расположении части, был направлен к другим нашим солдатам в «поля» под Нижний Новгород.
Там проходили регулярные полевые учения (поскольку служил я в части постоянной боевой готовности) и мы разворачивали палаточный лагерь, обустраивали территорию медицинского батальона. Пехота бегала и стреляла, танкисты разъезжали на танках и т.д. В общем, готовились к большой игре в войнушку.
Надо сказать, что в армии всё должно быть прямоугольно, квадратно, перпендикулярно, параллельно и, самое главное, однообразно. Это проявлялось практически во всём – в том, как должны располагаться палатки относительно друг друга и даже в том, как должна быть пограблена земля рядом с палатками.
Да, а под Нижним Новгородом земля – это сплошные пески, каждый сантиметр которых заселён муравьями.
И вот картина. Раннее утро. Я один иду с граблями от палатки, где мы ночуем, к палаточному лагерю медицинского батальона. И медитативно, последовательно, в течение нескольких часов вожу граблями по песку, оставляя на нём правильные параллельные линии. Отчётливо осознавая всю бессмысленность своей деятельности – ведь завтра на этом песке будут чьи-то следы, а ровные идеальные линии будут размыты ветром. И всю работу предстоит повторить снова и снова, и снова…
Это были самые радостные моменты в армии и одни из самых важных во всей моей жизни. Такое единство со всем миром мне редко когда ещё доводилось испытывать.
Генерал и идиот
Всё те же «поля». Однако существенно позже. В наш лагерь стали достаточно часто приезжать высокие военные чины. Прошёл слух о том, что в лагерь, где мы, ночуем должна приехать очередная проверка.
Все мои сослуживцы дружно слиняли, оставив меня как самого малослужащего дежурить в палатке, отдуваясь при необходимости во время проверки.
Сижу я в палатке. И слышу, как через один из тамбуров в неё кто-то заходит. Поворачиваюсь и вижу двух здоровых мужиков. По возрасту понимаю, что офицеры, однако из-за плохого освещения и из-за своего скверного зрения не могу распознать знаки отличия.
Встаю, говорю с запозданием «здравия желаю». Один из этих мужиков, что покрупнее, недовольно начинает обходить палатку и тут я вижу, что это генерал-майор. Раньше я генералов так близко живьём не видел. Другой мужик – полковник, свита на побегушках.
Генерал недовольно идёт по палатке прямиком к тумбочке, в которой мы хранили лишний хлеб, полученный по блату из полевой столовой. Открывает тумбочку и лицо его становится ещё более недовольным. Он поворачивается ко мне и начинает словесную тираду, пытаясь унизить и оскорбить. Проходится по моим умственным способностям.
В какой-то момент он спрашивает «ты хоть школу закончил?». «Так точно» отвечаю я. А про себя смеюсь и думаю, что если я скажу ему про свой красный диплом инженера-конструктора, то порву его шаблон без возможности к восстановлению.
Помню, я тогда стоял рядом с ним, смотрел на него. Целый генерал, на расстоянии вытянутой руки. Взрослый и здоровый мужик. И такой при этом не настоящий.
Генералы ходят строем или игра в войнушку
Полевые учения подошли к своей кульминации. Все солдаты были на своих позициях, все старательно играли в войнушку по строго заданному сценарию. Пехота, что-то штурмовала и оборонялась. Танкисты ездили и стреляли. ПВО сбивали ракеты. А мы изображали работу полевого госпиталя.
Лично мне перемотали руку бинтом и для эффекта намазали красной краской. Я изображал сквозное пулевое ранение руки.
Тогда я увидел потрясающее зрелище. Генерал, что званием постарше, строил зычным громким голосом несколько десятков генералов званием помладше и полковников. И водил их строем вдоль мест учений. В этом строе явно находились высшие офицерские чины не только Российской армии.
Всего мимо нас прошло несколько таких генеральских волн. В одной из волн нашёлся жизнерадостный генерал, который решил задержаться в палатке, где мы, «раненые», лежали. Он стал расспрашивать нас, «как дела на передовой?», «кто побеждает в войне?» и т.д. Мы что-то отвечали из роли… что «победа будет за нами», что «на передовой тяжело, но наш боевой дух не сломить».
Всё это выглядело комично, несуразно, абсурдно. Но это было более настоящим, чем всё остальное в армии.
Пошёл на@$й
Полевые учения закончились, и мы вернулись в расположение части в Нижнем Новгороде. Всю дивизию, в которой мы находились, переводили на контрактную службу и этот процесс как раз завершался в то самое время, когда я там служил.
Полковник, начальник нашего медбата, обхаживал отдельных солдат, наименее косячных, на предмет подписание ими контракта. Одним из таких солдат был я. Сначала он не единожды вызывал меня к себе в штаб, где пытался описать все прелести и перспективы службы по контракту. Соблазнял, настаивал, давил, уговаривал… Я же настойчиво отказывался от всех его подобных домогательств.
И мне запомнился один случай, когда он в последний раз пытался мне предложить контракт. Это было сделано на ходу, когда я шёл по дивизии по своим делам, а он шёл по своим.
Мы поравнялись. Я отдал честь со словами «здравия желаю товарищ полковник».
Не обращая внимания на моё приветствие, он спросил прямо:
«Лесман, подпишешь контракт?»
«Никак нет» — ответил я.
«Пошёл на@$й» — сказал он в сердцах и продолжил свою дорогу.
Тогда я почувствовал большую радость, облегчение и освобождение. Больше он не пытался соблазнять меня службой по контракту.
Посиделки в наряде
Я не стал подписывать контракт, и, в связи с этим был переведён в другую часть, что находилась в Орловских двориках (по-моему, так называлась эта местность). Теперь я служил в медбригаде.
В отличие от дивизии, здесь дислоцировалась всего-то несколько десятков солдат. Наверное, порядка 50-60. А в моей части только 8. Там я сдружился с Денисом, с которым мы регулярно вместе заступали в наряд по… гаражам (забыл, как это по-военному называется… вроде бы ВТИ). В общем, мы охраняли и поддерживали порядок в парке машин нашей части.
Уже близился конец моей службы. Я уже был старослужащим, и мне многое было позволено. Давление стало меньше. И от этого ощущение армейской неволи было почти невыносимым. Я помню ту всепронизывающую тоску, что сопутствовала последним дням моей службы.
И эти наряды с Денисом, где мы по ночам вели долгие разговоры за чашкой чая о жизни, об отношениях, о планах на будущее... Эти разговоры, полные тоски. Разговоры, в которых она признавалась и разделялась нами обоими.
Дембельский аккорд
Последние дни службы. Мой дембель и дембель одного товарища приходились на майские праздники. Как-то нас к себе вызвал командир части и сказал, что может устроить так, что мы демобилизуемся ещё до майских праздников, если выполним одну задачку. В противном случае демобилизация произойдёт только после праздников.
Задачу он поставил такую. Перед КПП была песчаная территория. Нужно было снять верхний уровень песка, на его место натаскать грунт с территории за пределами части и высадить газонную траву.
Мы с товарищем понимали, что это разводка. Что нас обязаны демобилизовать до праздников. И независимо от того, ввяжемся мы в это или нет – это произойдёт. Однако мы оба согласились. Мне очень хотелось оставить после себя что-то ценное, осязаемое, живое. И полковник, сам того не сознавая, дал мне такую возможность.
Мы всё своё свободное время посвящали этой задаче. Несколько дней выкидывали песок, ещё дольше таскали на носилках из близлежащего леса грунт. А после засеяли газонной травой, купленной за наши небольшие деньги.
И вот помню, как после тяжёлой работы, я лежал за КПП на траве и смотрел в небо. Солнце согревало тело. Пролетали облака. Мимо проходили какие-то офицеры в часть, но мне было на них так наплевать. Да и они ни как меня не беспокоили, видимо понимая моё состояние.
А я чувствовал жизнь и был её частью.
Деревья за окном машины
Это последнее воспоминание, связанное с армией. День моей демобилизации. Начальник части толкнул какую-то речь у КПП, поблагодарил за службу. Я попрощался с сослуживцами.
До вокзала меня вызвался подвезти наш прапорщик, заведующий складом. Я помню, как сидел в его машине и смотрел в окно. А за окном мелькали деревья, отражая неумолимый ход событий. Армия всё больше оставалась в прошлом и с каждой секундой я становился всё ближе к своему дому.
Эта история известного психолога и философа Жана Пиаже о ложной памяти взята из книги Юлии Борисовны Гиппенрейтер и Валерия Яковлевича Романова «Психология памяти» (первоисточник истории, к сожалению, я найти не смог).
***
Одно из самых ранних воспоминаний Жана Пиаже относится к тому времени, когда ему шёл второй год. Будучи уже в преклонном возрасте, он всё ещё мог отчётливо видеть сцену, в достоверность которой верил до пятнадцати лет.
Няня катила коляску с маленьким Жаном по Елисейским полям, когда какой-то преступник захотел его похитить. Она доблестно заслонила коляску собой и отбивалась всеми силами от похитителя, получив при этом несколько царапин. Эта борьба привлекла внимание прохожих, собралась толпа, подошёл полицейский в короткой накидке и с белой палочкой, и преступник пустился наутёк.
Для Жана Пиаже всё это воспоминание казалось невероятно реалистичным, наполненным разнообразными деталями и не вызывающим сомнений в правдоподобности. Но когда Жану было пятнадцать лет его родители получили письмо от бывшей няни, в котором она сообщала, что вступила в Армию спасения. В связи с этим ей важно было признаться в своих грехах и, насколько возможно, загладить вину за проступки прошлого. В письме она рассказала, что всю историю с похищением полностью выдумала, подделав и царапины. А также вернула часы, которые ей подарили родители Жана в благодарность за спасение сына.
***
Получается, что Жан Пиаже в детстве слышал рассказы о неудавшемся похищении, в которое верили его родители, и уже сам спроецировал картину несуществующего происшествия в прошлое в виде зрительной памяти. Всё это «воспоминание» стало исключительно продуктом работы психики Жана.
История Жана Пиаже отлично демонстрирует неоднозначность нашей памяти. Чёткость и ясность воспоминаний отнюдь не являются критериями «настоящести». Как не говорит об истинности и то, что общими воспоминаниями обладают несколько человек.
Эта история поднимает важные вопросы: какие события из нашего прошлого происходили в действительности? Как отличить настоящие воспоминания от ложных? Что же такое память? Несомненным остаётся лишь то, что далеко не все наши воспоминания происходили на самом деле.
Отрывок из книги Лесмана Артёма "Живые истории о психотерапии"
Мой телеграмм канал - https://t.me/wayofheart
Этим воспоминанием Ролло Мэй поделился в своей книге «Мужество творить». Для Ролло оно служит демонстрацией процесса творчества, но я предлагаю обратить внимание на другой его ракурс и обсудить буквальное содержание этой истории.
***
Студентом Ролло Мэй собирал материал для своей книги «Проблемы страха»: проводил исследование в нью-йоркском доме опеки на группе незамужних будущих матерей – беременных девушек в возрасте от десяти до двадцати с небольшим лет.
У Ролло была гипотеза, апробированная и предложенная его учителями-профессорами, с которой и сам он был согласен. Гипотеза утверждала, что «склонность личности к страху прямо пропорциональна тому, в какой степени они были отвергнуты матерями». Это была общепринятая идея в психологии и психоанализе на тот момент.
Ролло Мэй полагал, что страх у молодых женщин в доме опеки возникал из-за ситуации, в которой они оказались – юные, незамужние, в ожидании ребёнка и оставленные родителями. Это предположение позволило Ролло исследовать источник их страха – отвергнутость матерью.
Вскоре он заметил, что половина исследуемых женщин отлично соответствовала изначальной гипотезе, однако вторая половина ей противоречила. Во второй группе были девушки из Гарлема и Лоуэр Сайда, которые были решительно отвергнуты своими матерями.
К примеру, одна из них жила в семье, где было двенадцать детей. Одним летом мать отвезла её к отцу на баржу, где он работал надсмотрщиком. Там она забеременела от отца… и когда она находилась в доме опеки – её отец отбывал наказание в тюрьме за изнасилование её старшей сестры. На фоне такой истории эта девушка в соответствии с гипотезой Ролло должна была испытывать сильный страх и тревогу. Но, как и другие женщины во второй группе, она могла бы сказать: «у меня есть проблемы, но я не принимаю их близко к сердцу».
Тесты Роршаха, ТТА и другие методики, не выявляли особого страха у девушек из второй группы. Не обнаруживалась тревога и в личных беседах. Выгнанные из дома, они находили приятелей на улице, не испытывая при этом особого страха. Всё это никак не укладывалось в изначальную гипотезу.
Ролло Мэй долго ломал голову над противоречием, придумывая дополнительные гипотезы и отбрасывая их впоследствии… Одним вечером, отложив работу над этой проблемой, Ролло вышел на улицу и пошёл к метро. Уже рядом со станцией внезапно ему пришла мысль: женщины, не вписывающиеся в изначальную гипотезу, были из семей рабочих. И не успел Ролло сделать следующего шага, как в голове родилась готовая гипотеза: причиной травмы и источником страха является не открытая отвергнутость матерью, как он полагал ранее, а скрытое отвержение, замаскированное ложью и лицемерием.
Матери из рабочих семей отказывались от своих детей ясно, открыто и безжалостно, и дети не воспринимали это столь болезненно. Они легче принимали отвержение и спокойней жили дальше – находили себе другое общество, заводили новых друзей. Девушки из среднего класса всегда оказывались обманутыми – матери отказывались от них, но делали вид, что любят. И именно факт обмана, а не отторжение, становился причиной страха. Страх возникал из неопределённости, непредсказуемости, невозможности понять мир и ориентироваться в нём.
***
Из желания смягчить правду, не травмировать близкого или из стремления самому выглядеть хорошим в глазах другого, многие из нас рассказывают полуправду, вводят в заблуждение… лгут и лицемерят. Эта история показывает, что, стремясь сделать как лучше, мы причиняем лишь дополнительные страдания.
Смягчая правду, мы лишаем другого возможности встретиться с ней и принять её. Мы сеем тревогу, подрываем уверенность в реальности, способность в ней ориентироваться и строить планы на будущее. И больше всего от этого страдают дети, поскольку родители во многом формируют их видение мира. Куда более выигрышной стратегией оказывается прямое и открытое признание действительности, даже если это является неприятным знанием.
Отрывок из книги Лесмана Артёма "Живые истории о психотерапии"
Мой телеграмм канал - https://t.me/wayofheart
В психотерапии паузы тоже играют ключевую роль. Можно сказать, что эффективность психотерапии во многом зависит от способности клиента делать паузы и погружаться в глубины собственной психики.
Например, когда клиенту задают вопрос «как вы себя чувствуете?», то перед ним возникает развилка: он может отказаться от исследования своей психики и дежурно ответить «нормально», «хорошо» или другим подобным образом, а может взять паузу, обратить внимание на свои чувства и открыть что-то новое про себя.
Тоже самое касается любой практики, которая используется в психотерапии. Клиент может формально следовать всем предписаниям терапевта, но если он не привнесёт в свои действия глубины, что появляется в паузе, то терапевтической пользы от этого действия не будет.
Без глубины, вы можете бесконечно рисовать рисунки, но не заниматься арт-терапией. Выполнять физические упражнения, но не заниматься телесной психотерапией. Рассказывать истории, но не заниматься нарративной терапией. И т.д.
Любые практики, пусть даже самые продвинутые и совершенные, без глубины будут пустыми и бессмысленными. С другой стороны, если человек погружается в глубине, то даже самые примитивные и прямолинейные практики будут иметь большой психотерапевтический эффект.
Другими словами, без паузы не возможна глубина, а без глубины психотерапия не работает.
Читать больше текстов - https://t.me/wayofheart
«В молчании Бог произносит своё слово»
Майстер Экхарт
Есть практика, которая будет полезна абсолютно любому человеку. Будь то духовный практик или человек, занимающийся психотерапией, или обычный обыватель, далёкий от психологии.
Это практика пауз.
Дело в том, что мы всё время что-то делаем… постоянно погружены в какой-то процесс. Который, как правило, захватывает нас и лишает существенной части субъектности.
На нас воздействуют внешние или внутренние обстоятельства, а мы рефлекторно отвечаем на них. Без осознанности. Без возможности выбирать свои действия.
Так мы поступаем постоянно, день за днём. И именно так мы растворяемся в мире и теряем себя. Теряем свою субъектность.
Но у каждого из нас есть удивительная возможность делать паузы. Способность, которую можно и нужно тренировать.
Сделать паузу – значит остановить привычный поток событий и наших на них реакций. Выйти из захваченности. Проснуться. Очнуться от бытового транса.
В этом удивительном состоянии можно по-новому взглянуть на происходящее. Увидеть то, что раньше не замечали. Пауза останавливает привычный поток событий, даёт возможность выйти из «беличьего колеса». А значит у нас появляется уникальная возможность из паузы по-настоящему творить свою жизнь.
И в завершении текста слова протоирея Александра Меня:
«Мы живём как бы вдали от себя. Работаем торопимся, суетимся в домашних делах. Но мы совершенно не помним себя. Мне часто вспоминаются слова Майстера Экхарта: «В молчании Бог произносит своё слово». Молчание! Где у нас молчание? У нас всё время всё тарахтит. Но для того чтобы прийти к каким-то духовным ценностям, надо создавать островки тишины, островки духовной сосредоточенности. Остановиться на минуту. Мы же всё время бежим, как будто у нас очень большая дистанция впереди. А дистанция у нас короткая. Пробежать её ничего не стоит. Так вот, чтобы познать, углубить, осознать в себе живущую в нас веру надо вернуться к самим себе…».
Известный психолог Фредерик Перлз, основатель гештальт-психотерапии, в своей работе много внимания уделял взрослению человека. Он считал, что действительно взрослым человек становится, когда переходит от опоры на других к опоре на себя.
Мне хочется продолжить эту мысль. Есть одна фундаментальная опора, можно сказать «несущая»: это отношение человека с его смертью.
Почти всегда между человеком и глубоким осознанием собственной смертности находится незримая стена. Пока мы маленькие, у нас есть родители или другие взрослые, которые стоят между нами и нашей смертью: если смерть ещё не коснулась их, то до нас, детей, ей ещё далеко.
Если мы теряем опору на родителей, то можем найти её в религии и обнаруживаем себя статусе уже не человеческих, а «божьих детей». Можем заменить родителей на учителей, авторитетов, старших товарищей… А может быть мы захотим спрятаться от смерти за веру в науку, которая избавит нас от необходимости умирать. Или найдём утешение в каком-нибудь спасительном веровании. Или можем помещать себя в детей, которые продолжат нас. Может мы захотим оставить «след в истории» и вечно жить в умах людей…
Есть много вариантов того, что человек может поместить между собой и смертью. Но настоящая взрослость и полноценная жизнь начинается, когда между человеком и смертью не остаётся больше ничего. Когда человек не бежит и не прячется от своей конечности, а остаётся со своей смертью один на один.
Когда человек отчётливо осознаёт, что «я следующий»…
Когда смерть на расстоянии вытянутой руки и может коснуться в любой момент…
Когда она становится безмолвным свидетелем всех действий…
Тогда меняется всё: восприятие мира, планы на будущее, отношение к себе и другим. Человек действительно становится взрослым, без необходимости оглядываться на кого-либо.
Читать больше текстов - https://t.me/wayofheart