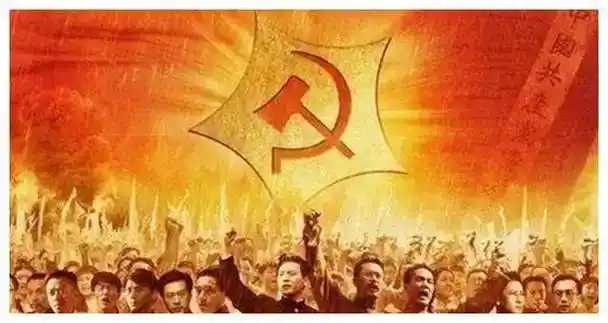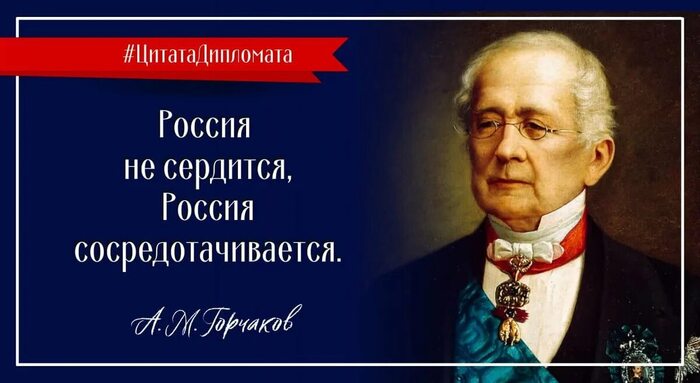Жизнь и карьера князя Александра Горчакова была фантастически удачной.
Рюрикович по происхождению, он получил превосходное образование, окончив Царскосельский лицей, где был однокашником Александра Пушкина.
Начав служить в дипломатическом ведомстве ещё в правление Александра I, при его племяннике Александре II он стал министром иностранных дел, пробыв в этой должности четверть века и став легендой российской внешней политики.
Всего же его дипломатическая карьера продолжалась 65 лет.
«Я утомил Европу своим долголетием», — сокрушался политический долгожитель на исходе жизни.
Впрочем, и продолжительности его физического существования можно только позавидовать: Горчаков прожил 85 лет, до конца сохраняя здравый смысл и бодрость духа.
Он имел в друзьях в молодые годы Пушкина, в зрелые — Фёдора Тютчева; во врагах — Александра Бенкендорфа и Клеменса фон Меттерниха, в соперниках — Отто фон Бисмарка, а в единомышленниках — самого императора…
Был последним лицеистом первого выпуска, последним в истории страны государственным канцлером, последним обладателем титула светлейшего князя и… первым по значению дипломатом.
В юности добровольно отказался от наследования отцовского имения в пользу сестёр.
Водил дружбу со многими декабристами, никого не выдал на следствии и не побоялся поддерживать связь с друзьями и в дальнейшем.
Именно по его настоянию Александр II вернул из ссылки оставшихся в живых участников восстания 1825 года.
Да и в дипломатии Горчаков полагался не только на расчёт, но и на чувства и даже страсти.
Свидетельством благородного и пылкого сердца Горчакова стала его женитьба, ради которой ему пришлось уйти со службы и, казалось, навсегда покончить с карьерой дипломата. На этом настаивал родной дядя его избранницы Дмитрий Татищев, по совместительству — начальник Горчакова.
Женился дипломат по страстной любви в возрасте 40 лет на 37-летней вдове с 5 детьми Марии Мусиной-Пушкиной (урождённой Урусовой) (1801−1853).
В браке родились ещё 2 сына: Михаил (1839−1897) и Константин (1841−1926). Первый был дипломатом, второй служил по ведомству внутренних дел.
Путь дипломата в большую европейскую политику начался с Венской конференции 1855 года, когда Россия, казалось, навсегда утратила международный авторитет и положение великой державы.
На его долю пришлись тягостный ресентимент Крымского поражения; гигантский государственный («военный») долг; польские восстания, горячо поддержанные Европой; метания в поисках союзников между Францией и Пруссией; создание новой архитектуры сотрудничества с Европой; долгое и малоуспешное разыгрывание балканской карты и многое другое..
Звёздным часом Горчакова стала Лондонская конвенция 1871 года, дезавуировавшая самые неприятные статьи Парижского мирного договора 1856 года.
Россия вновь получила право иметь флот и крепости на Чёрном море.
За этот успех, достигнутый в отсутствие военной силы и финансов, Горчаков, последним в России, получил титул светлейшего князя.
Он первым в дипломатических документах использовал формулу «государь и Россия», превратив в субъекта внешней политики не только самодержца, но и страну, которой он умудрился вернуть статус великой державы.
В 1867 году он получил должность канцлера — первейшего чиновника России.
И дело не в том, что Горчаков помогал готовить и горячо поддержал крестьянскую реформу.
«Россия будет иметь больший авторитет в политике, если внутри страны исчезнут разорение, бесправие, неурядицы», — полагал дипломат.
Он оказывал огромное влияние на внутриполитический курс, находя его как средством, так и конечной целью дипломатии.
Широко известна фраза из депеши, разосланной Горчаковым иностранным дипмиссиям в 1856 году, на руинах Крымской войны: «Россия не сердится. Россия сосредотачивается…».
Спустя 10 лет после смерти жены завёл бурный роман со своей дальней родственницей Надеждой Акинфовой, которую даже развёл с мужем, намереваясь на ней жениться.
Однако молодая особа предпочла престарелому канцлеру более свежего герцога Николая Лейхтенбергского.
На склоне лет дипломат, полагавший, что старость несёт в себе массу удовольствия, вновь запутался в сетях Амура, не жалея средств на некую красавицу в Баден-Бадене.
Это вызвало понятное недовольство его сыновей, специально приезжавших из России образумить батюшку.
Им это удалось — канцлер скончался на следующий день после проникновенной семейной беседы, а прах его был отправлен на родину и похоронен в родовом склепе на кладбище Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом…