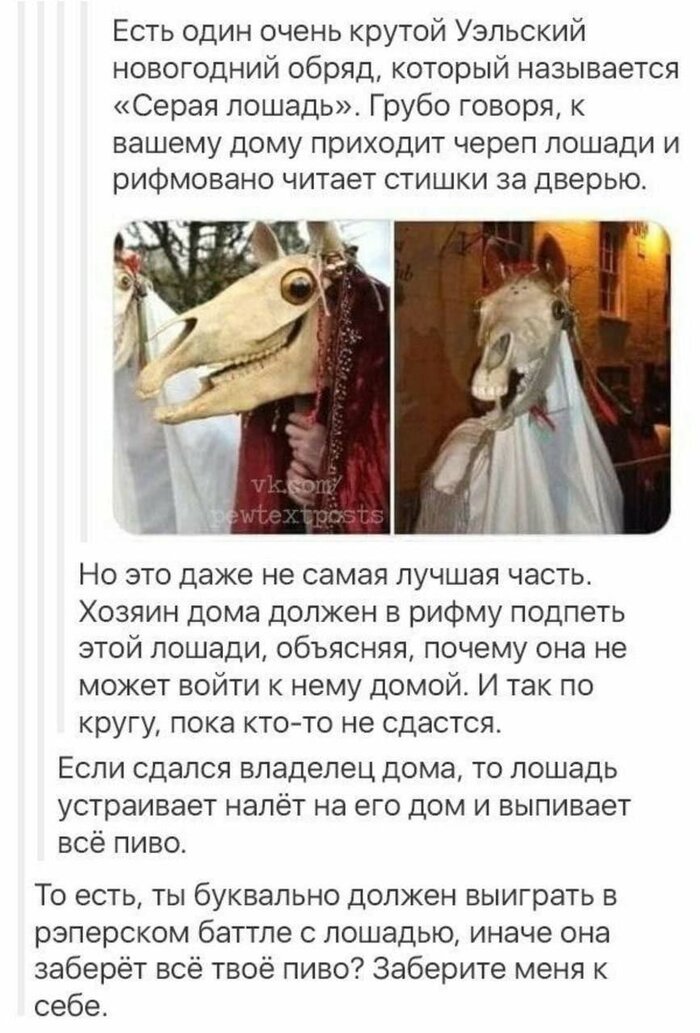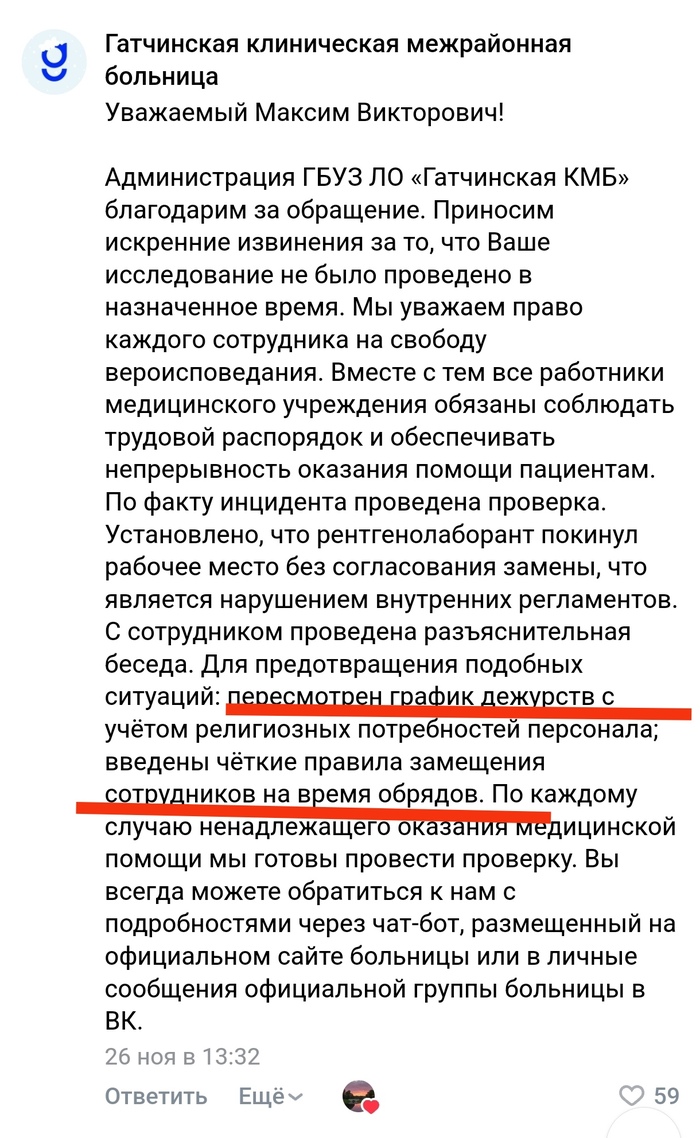Могущество веры
Разум слаб, вера всемогуща. Разум не может идти достаточно далеко и должен останавливаться, не доходя до своей цели. Вера делает чудеса.
Жил однажды священник брахман, который служил в одном домашнем храме. Однажды он уехал куда-то, оставив храм на попечение своего сына. И он сказал мальчику, чтобы тот ежедневно ставил пищу перед богом и смотрел, как бог её ест. Мальчик, следуя наставлениям своего отца, поставил приношения перед изображением бога и молча ждал. Но бог ничего не говорил и не ел. Мальчик ждал долго. Он твёрдо верил, что Бог сойдёт с алтаря, сядет перед приношениями и съест их. И он молился, говоря: «О Господи, сойди и съешь это. Уже становится поздно, и я не могу больше ждать». Но бог не отвечал. Тогда мальчик начал плакать, говоря: «Господи, мой отец велел мне посмотреть, как ты будешь есть приношения. Почему же ты не хочешь сойти? Ты же сходишь при моём отце и ешь его приношения. Что же я сделал, что ты не хочешь сойти при мне и съесть мои приношения?» И он долго и горько плакал. Когда он поднял глаза и посмотрел на приношения, он увидел бога, который, приняв образ человека, сидел и ел пищу. Когда служба кончилась и мальчик вышел из храма, хозяева дома сказали ему: «Теперь служба кончена, принеси сюда приношения». «Но бог всё съел», ответил мальчик. «Что ты говоришь?» с изумлением спросили его. И с абсолютной невинностью мальчик повторил: «Бог всё съел, что я принёс, там больше ничего нет». И когда люди вошли в храм, они остолбенели при виде пустых блюд. Такова сила истинной веры и истинного желания.
Да, вера может дать человеку силу переплыть огромный океан без малейшего затруднения. В поэме «Рамаяна» говорится: Рамачандра (воплощённый Бог) работал долго и много, стараясь перекинуть мост через пролив, отделяющий остров Ланка (Цейлон) от материка Индии. Но, как бы для того, чтобы доказать величие и всемогущество веры, он дал своему бхакте, великому Хануману возможность перепрыгнуть через пролив одной только силой веры.
ПРОВОЗВЕСТИЕ РАМАКРИШНЫ