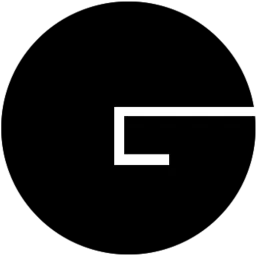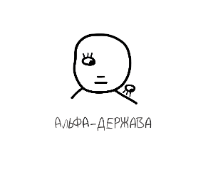
АЛЬФА-ДЕРЖАВА
6 постов
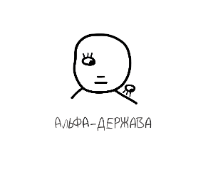
6 постов
Есть такой сказочник в халате - Роберт Сапольски. Гладит бабуинов и рассказывает, как прекрасен мир без «токсичных» альф. У него всё просто: убери доминанта - и стая заживёт как в утопии. Жаль, что реальный лес про это не слышал.
Этот дяденька воспитывался в ортодоксальной еврейской семье, а когда повзрослел - стал научным сотрудником. Сапольски - отличный пример того, как наука может работать в угоду современным тенденциям (или, наоборот, эти тенденции развиваются вкупе с такой наукой). Исследуя группы бабуинов, он написал несколько докторских работ о стрессе в коллективе и его влиянии на здоровье особей.
Главными виновниками всех проблем он объявил альфа-самцов стаи, которые, в перерывах между защитой группы от хищников и конкурирующих обезьян, якобы «истязают» бета-самцов и самок ради разрядки своего «плохого настроения». В доказательство он приводит историю с одной наблюдаемой группой бабуинов: все альфы там погибли, отравившись заражённым туберкулёзом мясом, и в стае остались только бета-самцы и множество самок. По словам Сапольски, это привело к снижению стресса и гармоничным отношениям в группе. В общем, все зажили дружно и счастливо - как в светлом будущем.
Вот только о способности такой «мирной» группы противостоять нападениям хищников или более агрессивных стай приматов придворный биолог умолчал. Ну оно и понятно - это не вписывается в концепцию токсичной маскулинности, которую так усердно педалируют и у нас, и на Западе.
Видимо, в их светлом будущем никто и не вспомнит, что стаю без клыков и агрессии очень быстро съест кто-то, у кого всё это ещё осталось. Так что мир без альф и «токсичной маскулинности» выглядит мило и красиво - ровно до того момента, пока не услышишь рык чужака за спиной.
Но прежде чем окончательно поверить в утопию без агрессии и иерархий, давайте посмотрим на реальность повнимательнее. Давайте разберёмся, как подобные «мирные» сценарии работают в реальных, а не лабораторных условиях. Очень примечательные наблюдения за одичавшими коровами в Чернобыльской зоне отчуждения подтверждают: возвращение к первобытным механизмам поведения усиливает как отдельную особь, так и всю группу в целом.
В условиях дикой среды, полной естественных угроз, домашние коровы сформировали иерархически организованное стадо с чёткой структурой. Его ядро - взрослый бык-лидер, который допускает других быков в стаде до тех пор, пока те не претендуют на его доминирование. Такая модель повышает устойчивость всей группы: сильные быки отпугивают хищников, молодняк надёжно охраняется внутри круга взрослых особей, все члены сообщества действуют слаженно, согласно природным ролям. Поведение этих коров удивительно точно повторяет поведение их диких предков - туров.
Такая «реинтеграция» в естественные условия демонстрирует: именно природные, выработанные эволюцией поведенческие механизмы обеспечивают выживание. Там, где иерархия разрушена, где нет сильного и защищающего лидера - приходит упадок и гибель.
Это универсальный биологический закон. И то, что справедливо для стадных травоядных, тем более актуально для человека. Мы - всё те же биологические существа. Но в тех случаях, когда социальная конструкция входит в прямой конфликт с биологической реальностью, возникает кризис, сначала индивидуальный, потом - цивилизационный. Когда поведенческие, политические или культурные модели игнорируют биологические основы пола, иерархии, инстинкта доминирования и защиты - это неизбежно ведёт к дегенерации и популяционной слабости.
Сегодня мы часто с тревогой замечаем: мальчики растут не мужчинами, а инфантильными, капризными подростками, неспособными к усилию, риску и принятию ответственности. Но так было не всегда.
Вот простая иллюстрация.
На старой фотографии - два мальчика, братья Луи и Темпл Абернати. Им 7 и 11 лет. В 1911 году они заключили пари на десять тысяч долларов: доехать верхом из Нью-Йорка до Сан-Франциско (а это более 4500 километров) за 60 дней. И хотя проиграли пари, опоздав всего на два дня, они в одиночку прошли путь, на который не решился бы и каждый взрослый. В семь и одиннадцать лет. Без GPS, без страховки, без опеки. Сегодняшние дети способны разве что пройти пять уровней в любимой стрелялке. (https://t.me/gromovaty/138)
Конечно, времена изменились. Но исчезло и культурное отношение к мальчику как к будущему мужчине - к тому, кто должен расти в силе, характере и воле. Его место заняла воспитательная модель, в которой слабость считается достоинством, а маскулинность - не ресурсом, а угрозой.
То, что происходит сегодня - это уже не просто культурный сдвиг, а социобиологическая деформация. Маскулинность демонтируется под флагом «равенства», мужская природа патологизируется под маской «токсичности», мужская роль принижается как атавизм. Научно-популярные авторитеты вроде Сапольски подводят к этому псевдонаучную базу, апеллируя к выборочным примерам и «доброму» биологизму без хищников.
В результате общество становится всё более андрогинным, размазанным по гендерной шкале, с ослабленным инстинктом защиты, размножения и лидерства. Но биология не знает компромиссов: популяция, потерявшая маскулинный вектор, не выживает. Природа беспощадна к тем, кто забывает о своей природе.
Нежные мальчики в обтягивающих джинсах уступают улицы тем, кто не читал Сапольски, но умеет защищать и брать своё - и на место ослабленных мужчин приходят те, у кого с природой всё в порядке.
_______________
Короткие эссе, смысловые импульсы, интеллектуальный абсурд, фрагменты снов и шумов. Добро пожаловать в синапс. Подписывайтесь в TG: https://t.me/gromovaty/
Право – это не просто свод норм, а основа политического устройства, как его понимали ещё в античных демократиях. Это пространство взвешенного спора, интерпретации и человеческого участия. Именно поэтому юристов, рассуждающих о применении искусственного интеллекта в профессии, нужно бы подвергать остракизму.
Юриспруденция зародилась как занятие жрецов и изначально была сакральной практикой – доступной немногим, требующей посвящения, интерпретации и живого суждения. Никакого упрощения юридической функции в долгосрочной перспективе внедрение ИИ не несет, а грозит кабалой и запредельным расслоением сообщества.
Попытка бездушной автоматизации всех процессов – это не прогресс, а десакрализация, превращение права в набор цифр и алгоритмов. В итоге мы рискуем не облегчением доступа к справедливости, а цифровым жречеством – только уже без совести, эмпатии и человеческой меры. Жреческую роль теперь будут играть не знатоки права, а операторы кода и держатели доступа к искусственному разуму. Вместо людей, посвятивших себя справедливости, власть получат владельцы ИИ – новых непрозрачных субъектов с программируемой волей.
Причём эта логика касается не только права – под ту же циничную автоматизацию сегодня подводят образование, медицину, госуслуги, банки и все сферы, где ещё вчера человек общался с человеком. Нам обещают удобство, скорость и якобы доступность, но цена этой иллюзии – утрата человеческого суда, такта и сострадания.
Машина не знает, когда проявить гибкость, а когда – милосердие. Она не возьмёт на себя тяжесть совести за принятое решение и не понесёт ответственности за ошибку. В итоге нас ждёт мир, где живой взгляд, слово и участие подменяются холодным алгоритмом – и где человек становится лишь объектом в чьей-то цифровой ведомости.
Я не ною и не канючу, когда говорю о негативных последствиях ИИ. Я лишь стараюсь трезво смотреть на вектор, по которому движется наше общество. При уже глубоко атомизированной социальной структуре нас теперь ждёт ещё и антропоморфный разлом: одни смогут позволить себе живое человеческое общение, другие останутся наедине с цифровыми суррогатами. Это не трагедия – это просто новая реальность.
Расслоение всегда было частью человеческой природы, но впервые за всё время оно затрагивает не только доступ к ресурсам, но и саму биологию общения – с последствиями, способными влиять на глубинные уровни психики, уровень привязанности и способность к эмпатии.
Причём эти изменения, как показывают данные по эпигенетике, могут передаваться дальше – от поколения к поколению.
Общество давно живёт в режиме искусственного раздробления и индивидуализации, но теперь эта логика проникает в самые основы: живое общение станет роскошью, а для большинства останется только алгоритм и цифровая видимость участия.
Хочу зафиксировать переход. Впервые в истории неравенство касается уже не просто доступа к власти или богатству – оно становится биологическим.
Это новая кастовость: кто-то останется с людьми, а кто-то – с машинами.
_______________
Короткие эссе, смысловые импульсы, интеллектуальный абсурд, фрагменты снов и шумов. Добро пожаловать в синапс. Подписывайтесь в TG: https://t.me/gromovaty/
Богатство – не всегда признак ума, гораздо чаще – просто удачное совпадение: кто-то вовремя дерзнул, поставил на нужный цвет и оказался в правильном месте в нужный час.
Обменял риск на прибыль – и угадал. Чистой воды лотерея.
У кого-то вдруг зашло – и он на обложке журнала. У кого-то в этот раз не прокатило – остался ноунеймом, хотя пахал, может, в три раза больше. Повезло первым? Несомненно. Стали ли они умнее? Ха, зачастую – как раз наоборот: это не гениальность – это рулетка с выпавшим джекпотом.
А вот уже потом, на волне успеха, резко включается типовая мутация. Почти всегда.
И вот он – золотой стандарт ютубного треша: человек или внезапно разбогател, или удачно прикинулся, будто разбогател – и сразу пускается в ритуальный бред. Тут же начинает вещать какую-то дичь – этика бизнеса, спасение мира, особая миссия, биолокационные медитации, астрофизиология, холотропное дыхание, уринопластика, вибрационные практики, регрессивный гипноз, квантовое очищение, сакральные воронки, целительная вода с памятью – всё это с серьёзным видом преподносится в подкастах, где мимика важнее смысла.
Друзья, будьте людьми.
Соблюдайте информационную и социально-когнитивную гигиену. Если у женщины внушительная грудь – это ещё не приглашение в ЗАГС. Если у мужчины торс, как у древнегреческой статуи – это не повод срочно беременеть. Если кто-то вдруг поднял миллионы – это не означает, что он говорит хоть что-то вменяемое. Это не повод принимать бред сивой кобылы за непреложную истину.
Берегите мозг. Не позволяйте туда метить всякому, кто прорвался к микрофону.
Богатство – не индульгенция на любую чушь, а критическое мышление – не бонус, а базовая функция. Пользуйтесь ею. Регулярно. Как зубной щёткой.
И вот что важно: тот, кто действительно заработал очень большие деньги, никогда не поделится инструкцией.
Во-первых, большинство этих счастливчиков до сих пор сами до конца не понимают, каким именно образом это с ними случилось. Во-вторых, те редкие особи, которые поняли как именно они разбогатели – молчат. Молчат, потому что поняли.
Отпустите этих людей с миром.
Или вот еще что. В алхимии и средневековой символике саламандра ассоциировалась с духом огня – элементалем, тело которого оставалось холодным, позволяя не сгорать в пламени и даже тушить его. Этот образ символизировал стойкость, бесстрашие и способность выдерживать экстремальные испытания, превращая разрушительную энергию огня в свою силу.
Легенда о саламандрах, способных выжить в любом огне, появилась забавно: крестьяне бросали в костёр сырые, трухлявые поленья, внутри которых прятались ящерицы. Древесина гасила часть пламени, и ящерица, ускользая из огня, создавала иллюзию неуязвимости. Так родился миф о саламандре как духе огня – и этот образ пережил реальные свойства животного.
Эту ошибку выжившего можно назвать принципом саламандры: тысячи ящериц сгорали в огне, но в легендах остались лишь те редкие, что спаслись.
То же и с людьми. Все истории о гениальности, трудолюбии, таланте и чудесах – это суть принцип саламандры. За каждой великой судьбой стоят сотни никому не известных, не сумевших вырваться из всепожирающего Пламени.
Именно поэтому мы превозносим не столько талант, сколько невероятную удачу оказаться одной из немногих саламандр.
Мы видим только тех, кто смог вырваться из огня, и забываем обо всех, кого этот огонь поглотил. А ведь остальные ящерицы – те, кто не выжил в огне – это сотни и тысячи талантливых, трудолюбивых и способных людей, которых обстоятельства, случайности или жесткие жизненные условия уничтожили или не позволили проявить себя.
Мораль простая. Удача почти всегда играет ключевую роль, часто находясь вне контроля самого человека.
_______________
Короткие эссе, смысловые импульсы, интеллектуальный абсурд, фрагменты снов и шумов. Добро пожаловать в синапс. Подписывайтесь в TG: https://t.me/gromovaty/
Идейно мне претит сама парадигма сейфспейсов (с англ. – «безопасные пространства») – этих цифровых коконов, в которых организм отгораживается от стресса живой среды. Под предлогом психологической гигиены и бережности к чувствам формируется среда, радикально не соответствующая естественным условиям обитания. Это – симуляция жизни, лишённая главного – тренирующего напряжения.
Монотонная вибрация в окружении безусловных единомышленников не просто расслабляет – она атрофирует. В природе вид, попадающий в среду без естественных врагов и внешнего давления, деградирует – утрачивает рефлексы, ослабевает, теряет форму. Там, где не нужно ежедневно заявлять о себе, проверять устойчивость своей когнитивной конструкции, латать прорехи в логике – рождается не мир, а песчаный мираж. Прелестный, пока в него не врежется первый порыв ветра.
Реальность – это не сейфспейс. Её давление непрерывно, и в этом её эволюционная ценность. Все эти платформы с бан-листами, фильтрацией негативных реакций, цензурой и слежкой – это биосфера, откуда вымывают хищников. В краткосрочной перспективе – уют. В долгосрочной – полное исчезновение адаптивных навыков.
Что даёт пользователю социосеть, стерилизованная от конфликта? Ничего, кроме иллюзии. У Твиттера и Фейсбука не получилось стать ни цифровой ойкуменой, ни стерильным рассадником просветлённых. Они превратились в болотную среду обострённой чувствительности – перегретых, психически незащищённых реакций. Уязвимых, не защищённых психически. Вместо того чтобы закалиться, люди попросту расплылись.
Чатики и телеграм-каналы, в которых администратор искусственно удаляет негативную обратную связь – это не пастораль. Это – тепличный эксперимент. Автор живёт в своей ванне с пеной, где всё ванильно, гладко, без перепадов температуры. Только вот такая ванна не лечит – она обнуляет.
Для меня маркер отсутствия интеллектуального мужества – это отключённые дизлайки, отсутствие клоунов, кусков говна и прочих символических индикаторов несогласия. Даже если я ими не пользуюсь – я уважаю сам факт их наличия. Это – минимум обратной связи, элементарная симуляция естественной среды. Когда автор сознательно вычищает поле восприятия от инакомыслия, он создает информационную ловушку. Где нечего ловить – кроме его эго и зеркальной воды.
Зайдите в такой уютный чат и попробуйте задать вопрос, идущий вразрез с установками хозяина – и ловите мгновенный молчаливый бан вместо честного спора. Потому что админ там – не модератор среды, а дизайнер смысла, эстетики, духовности. Статуя на коммунальной кухне – смотрит с высоты, но пахнет все тем же дошираком. А внизу – живой народ. Комментаторы. Мясо. Гоминиды, которым иногда хочется усомниться. Им, как и в природе, положено рычать, оспаривать, стучать камнем о камень. Это – биология. Это – язык выживания.
Чат без боли и крика – это не общение, а декорация. Где нет конфликта – там нет и роста.
Но реальность не реагирует на эфемерную эстетику – она не ведется на вайбы. В природе нет safe mode. Вылизанная натура может блистать обложкой, но под ней – тот же слабый каркас. Ни жара, ни жала, ни вектора. И как только реальный стресс ударит – фасад сложится. Потому что мир не ограничивается уютным чатом – как биосфера не сводится к вольеру.
Как долго подобные дискурсивные анклавы смогут сохраняться в состоянии полной стерильности? Сколь устойчивыми могут быть герметичные среды, изолированные от внешнего раздражения и конфликта? Любая замкнутая система без входа раздражителей и отбора – умирает. Единственный путь к внутреннему росту – признание, что мир безнадёжно сложнее, чем любая мыслящая единица. И его нельзя замкнуть. Его нельзя исправить под себя. Измениться можно только самому – и только в борьбе, в соприкосновении с другим.
Нужно лить воду не в теплую ванну комфорта, а на мельницу ясности. Там, где есть ветер, сила и зерно. Там, где можно молоть – а не сдуваться.
Я первым делом я смотрю на степень открытости: есть ли полный набор реакций, можно ли высказаться, открыт ли чат. Если да – уже интересно. Это значит, автор не боится обратной связи, не прячется за фасадом, не держится за парадигму. А если не банален, не отлакирован, не вылизан – тогда есть шанс, что он видит глубже и даст то, что не дадут другие. Именно смелость и незашоренность делают публициста отличным от серой массы коллег по ремеслу.
А если всё отфильтровано и разрешены только сердечки и плюсики – проходите мимо. Там вместо мысли – только эго, нарциссизм и страх.
_______________
Не согласны? Да ради бога - смело ставьте мне клоуна, шлите фак или наваливайте целую кучу. Я не в обиде. Пожалуйста: https://t.me/gromovaty/
Говорят: мы живём в эпоху перемен. Впрочем, это не комплимент. Древние китайцы не зря проклинали именно этим пожеланием: чтобы ты жил в интересные времена. Скучать точно не придётся – но вот понравится ли происходящее, это ещё вопрос.
Ещё в середине XX века австрийский экономист Йозеф Шумпетер описал, как система, построенная на предпринимательской свободе, со временем пожирает саму себя.
Он объяснял это так: если у человека есть выбор – честно конкурировать или прибрать всё к рукам силой – он скорее выберет второе. Поэтому капитализм, развиваясь, неминуемо тянется к монополиям. А там, где возникает монополия – появляется и диктат. Политический, экономический, управленческий. Его ядро – транснациональные корпорации, которым выгоднее не соперничать, а устанавливать правила. А за исполнение этих правил уже следят государства, действуя строго по сценарию корпоративных хозяев.
Чтобы такой порядок выглядел прилично, формируется особая прослойка – левые интеллектуалы, выращенные в теплицах глобалистской идеологии. Они искренне верят в заботу государства о человеке и люто ненавидят средний класс – как главное препятствие на пути к централизованному контролю. Нечто похожее мы уже наблюдали в истории – большевики с тем же упорством вырезали кулаков и казаков, считая их угрозой для власти пролетариата.
Соединяя усилия политиков, корпораций и очарованной «прогрессивной» публики, старый капитализм перегружается запретами и регулированием – и в результате плавно переходит в нечто новое. Формально – социализм. Фактически – нет.
Любопытно, что сам Шумпетер не слишком жаловал Маркса. Но оба – как бы по разным маршрутам – пришли к одной развилке: капитализм сменит социализм. И оба, по-своему, ошиблись.
Маркс считал, что революционные преобразования совершит рабочий класс. Но XX век это опроверг: выяснилось, что большинству рабочих не слишком важно, как называется строй. Им нужны нормальные зарплаты, меньше часов, отпуск летом и чтобы не трогали лишний раз. А идеологические конструкции пусть варятся где-нибудь отдельно – за пределами трудовой книжки.
Шумпетер, в отличие от Маркса, оказался ближе к реальности – но и он промахнулся. Он ожидал, что власть монополий приведёт к социалистической модели, где всё подчинилось бы бюрократии и централизованному планированию. Но вышло иначе: не государство подчинило себе бизнес, а крупный бизнес приручил государство и заставил его работать на себя.
На первый взгляд – какая разница? Те же латы, только по-новому застёгнуты. Но дело в нюансах.
В социализме – даже в его карикатурных вариантах – у общества формально сохраняется шанс на участие. Через выборы, через партии, через возможность давления. Хоть бы и в рамках убогой формы демократии под названием представительная. А вот при приватизации общественных институтов бизнесом такого шанса не остаётся вообще – даже формального. Управление обществом осуществляется за закрытыми дверями корпоративных офисов, куда общество не имеет никакого доступа и, соответственно, никакого влияния.
Так возникает деспотия без лица, без конкретного субъекта, без точки воздействия. Современному эсеру, даже если таковой вдруг найдётся, будет просто непонятно – в кого бросать бомбу.
Вот это и есть подлинный конец истории по Фукуяме. Это – не триумф либеральной демократии, а торжество незаметного, технологически оформленного господства. Сюда добавляется цифровой контроль, искусственный интеллект в управлении и полное исчезновение среднего класса. Зарплаты сокращаются, расслоение усиливается, а социальная значимость отдельного человека стремится к нулю.
ИИ с помощью больших данных подбирает ключ к каждому индивидуально. Демократические институты теряют всякий смысл. Мнение человека больше не нужно – если можно нужное мнение в него загрузить. Почти цифровой коммунизм: каждому по потребностям (и по нажатию на кнопку). Если телевидение вещает по площадям, то теперь у каждого в смартфоне будет персональная телепрограмма – сформированная точно по его вкусу и темпераменту. Одного можно запугать, другого – обнадёжить, третьему – польстить. Всё мягко, ненавязчиво, строго в духе НЛП.
Цифровые деньги – вот настоящий ошейник, с помощью которого и реализуется этот самый конец истории. Конец свобод. Конец частной жизни. Конец иллюзий. Конец накоплений. Конец субъектности.
Все эти разговоры про контроль за госрасходами, борьбу с коррупцией, упрощённое налогообложение и элиминацию бесполезной прослойки дармоедов вроде бухгалтеров, юристов и экономистов – это ширма.
У цифровых валют, помимо полной отслеживаемости каждой транзакции, есть ещё одна удобная функция – программируемость. Можно задать срок годности (не потратил за год – сгорело) или назначение средств (вот тебе сто тысяч: тридцать – на еду, пятьдесят – на аренду, а на оставшиеся гуляй, ни в чём себе не отказывай). Вас ведь прямо предупреждают: цифровые деньги будут окрашенными. Понимаете, что это значит? Это означает полный контроль. Чужая рука – постоянно в вашем кармане. Глобальному бизнесу нужны гарантированные рынки сбыта, а это возможно только при полном контроле над потребителем.
Цифровые валюты по своей прозрачности, виртуальности и программируемости – это уже не собственность, а атрибут гражданина. Наличные можно спрятать, передать, накопить, вывезти, унаследовать, потратить анонимно. А цифровые – нет. Или можно, но по разрешению эмитента.
Одним словом: в случае с наличкой гражданин – владелец. В случае с цифровыми – в лучшем случае распорядитель. А на деле – просто пользователь, допущенный к деньгам временно и на условиях, продиктованных системой.
Повсеместное внедрение цифровых валют меняет саму суть денежного обращения. Деньги приобретают характер социального рейтинга гражданина. То есть человеку будут платить за социально одобряемые действия и штрафовать за проступки.
Представьте себе айтишника, который условно заработал 1 миллион цифровых рублей, получил бонус в 100 тысяч за следование дедлайнам и списание в 200 тысяч – за то, что пьяным справил нужду в общественном месте. На первый взгляд, это не слишком отличается от реальности. С одним исключением: само существование наличных денег и банковской тайны делает такую систему невозможной. А значит, от них придётся избавиться.
Идем дальше. Маркировка товаров индивидуальными кодами не имеет ни малейшего отношения ни к контролю качества, ни к борьбе с контрафактом, ни даже к налоговому учёту. Присвоение каждому товару уникальной метки – это подготовка к цифровой валюте. Создаётся товарная масса, которая может быть использована как обеспечение цифрового рубля.
Стандарт GS1 охватывает около 120 стран, а реально используется более чем в 150. Честный Знак – думаете, для потребителя? Для честности? Для контроля контрафакта? Да нет же. Это из той же серии. Цифровой рубль станет по-настоящему другим видом денег тогда, когда под него будет создано собственное обеспечение – набор товаров, которые нельзя будет купить ни за наличные, ни за обычный безнал. Сейчас эти товары свободно продаются, но в любой момент может быть принято решение, что торговля маркированными товарами возможна только за цифровые рубли.
Глобалисты не случайно устроили тестовый запуск в Нигерии, где внедрение цифровой найры закончилось массовыми протестами и погромами. Вывод: форсированный переход не работает. Население просто уходит в тень. Поэтому переход должен быть постепенным. Сначала – обеспечение, потом сжатие пространства для обычных рублей, и лишь затем – отключение альтернатив. Но прежде – перевести основную массу потребительских товаров на QR-коды. Всё остальное – дело техники.
И вот интересный момент: почему-то принято считать, что образцом цифрового концлагеря является Китай. Между тем Индия – ничем ему не уступает. В стране уже почти десять лет функционирует крупнейшая биометрическая система в мире – Aadhaar. Сегодня в ней зарегистрированы почти 100 % взрослых (кроме высших лиц высших каст, естественно). Каждому гражданину присвоен ID-номер, к которому привязаны отпечатки пальцев и скан радужки. Эти данные используются для получения доступа ко всем важнейшим услугам – от госуслуг до банков. Уже в 2019 году система работала практически без сбоев. Верификация личности занимала не более одной секунды.
А недавно индийское правительство решило, что отпечатков и радужки мало. В систему добавили распознавание лиц. Всё просто – селфи, загрузка в приложение, вуаля. И через три месяца обновлённое приложение уже использовалось для распределения продовольственных пайков.
Думаете, цифровой поводок только для развивающихся стран? Спокойно. Вас система тоже идентифицирует. Вопрос только – когда и на каких правах.
Пару лет назад Германия начала эксперимент с банковскими картами ограниченного применения. Они внешне не отличаются от обычных, но предназначены исключительно для беженцев.
Работают только на территории федеральной земли, которая их выдала. С них нельзя снять наличные, нельзя перевести деньги, нельзя сделать определенные платежи. Только оплата – в транспорте, в магазине, за некоторые услуги.
Примерно десятая часть мигрантов уехала обратно домой. Но внутри страны эксперимент получил полное одобрение обычных бюргеров. Фактическое установление тотального контроля над расходами мигрантов граждане посчитали справедливым. Толпе почему-то даже в голову не приходит, что по такой же схеме (с добавлением срока действия и геоограничений) будут работать цифровой евро, цифровой рубль и прочие цифровые дензнаки ближайшего будущего. Но нет, особо упоротые списывают это на теории заговора. На самом деле, никакой конспирологии не существует.
И опять же, даже многие тут искренне радуются: наконец-то чиновников и прижмут.
Не спешите. У них – депутатская неприкосновенность, дипломатические паспорта, а ещё будут особые цифровые деньги с особыми допусками. А для вас – окрашенные транзакции, срок действия, геозависимость, целевое использование, лимиты.
Итог: невозможность личного финансового планирования, а значит – невозможность накопления капитала. Нет капитала – нет власти – нет угрозы существующей системе.
Многие учились при советской власти и должны помнить со школы работу Ленина "О государстве". Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчинённые классы. Форма этой машины бывает различна. Чиновники этот постулат усвоили отлично. И не только в России.
Просто эксперимент по оцифровке условных европейцев решили начать со второго и третьего миров. Как и с социализмом, про который Бисмарк однажды сказал: Для его строительства нужно выбирать страны – те, которых не жалко.
В дореволюционной России мужик — это не герой из народных сказок, а юридически оформленный крестьянин с ярмом на шее. Холоп. Плательщик налогов, носитель повинностей, вечно согнутый к земле — не из смирения, а по обязанности. Он был не столько человеком, сколько единицей оброка. Кусок биомассы, встроенный в государственную экономику по принципу «дойной коровы». И что характерно — без права мычать.
В криминальном сленге слово мужик и вовсе трансформировалось в фраера — а фраер, как известно, это кодовое слово для обозначения простака. Или, по-простому, лоха. В уличной иерархии — это не оскорбление, это диагноз. Человек вне системы, неопасный, наивный, не в теме. Биологически — добыча.
И вот сегодня, в эпоху, когда личность можно собрать из набора опций как кастомный мотоцикл, на улицах можно встретить этих странных представителей человеческого рода, самодовольно гордо называющих себя настоящими мужиками. Порой с огоньком в глазах, порой — с тату на плече, где патриотизм густо замешан на полусознательном мазохизме. Настоящий русский мужик — звучит как гордость, но переводится буквально: эталонный лох с паспортом РФ.
Нет, это не издевка, это семантическая реанимация смысла. Называть вещи своими именами — это акт интеллектуального гигиенизма, попытка вычистить лексическое пространство от словесного мха и идеологических клещей. Быть мужиком — не стыдно. Стыдно — носить этот ярлык, как медаль за безликость. Гордиться тем, что изначально было печатью зависимости, — это как праздновать годовщину своего ареста.
Голова дана не только для того, чтобы в неё загружать борщ. В ней можно — при должном старании — прокачать осознанность. Или хотя бы понять, что если ты по жизни мужик, то, может, уже пора перестать им быть.
________________________________
Отсюда: t.me/gromovaty/
Обсуждаются поправки в законодательство, по которым к ответственности могут привлечь даже за поиск «экстремистской» информации. О, да — державный патернализм ставит всё новые рекорды по соборности, которой нам, очевидно, так не хватает для решения задач, поставленных государем и его мудрым управленческим аппаратом. Безусловно, ход сильный — но, признаться, в рамках столь чётко очерченной тенденции подобные шаги вряд ли могут по-настоящему удивлять.
Эти новости — всего лишь очередной повод напомнить: можно избить человека в СИЗО, снять это на видео, показать всем, и не только не понести наказания, но и получить одобрение. Ведь до этого публичным решением «сверху» избитый уже был направлен туда — на перевоспитание. После такого, как уже понятно, возможно всё.
Когда-то, направив человека на перевоспитание (да-да, именно с такой формулировкой), государь весьма отчётливо дал понять, где место обществу и его законам. Есть государь — он определяет курс, цели, задачи, ценности и границы дозволенного. Государство — это его земля, его порядок и его люди. Так вот обсуждаемый закон, озвученный его доверенными лицами, ещё раз подчёркивает: люди — именно его, а не какие-то «сами по себе». Они здесь, потому что нужны — для воплощения замыслов и стратегий.
А если кто-то вдруг считает, что он сам себе субъект, и не соотносит себя с обозначенными государем смыслами и целями — ему здесь не рады. Но раз уж он всё-таки остаётся, пусть знает: потаённая крамола, скрытая в простом интересе — интересе, порождённом отсутствием святой веры в решения и постановления органов государственной и судебной власти — не останется незамеченной. Сказано: экстремизм. Зачем полез проверять? Не веришь?
Несколько лет назад осудили девушку, переклеившую ценники — с описания товаров на информацию о потерях, которую она считала достоверной (именно это и побудило её к действию). Обвинили в распространении заведомо ложной информации. Так, через своих представителей, государь дал понять: сомнения — это уже преступление, а официальная информация — истина последней инстанции.
Право общества не доверять своему руководству, проверять его решения, задавать вопросы — осталось где-то в прошлом. Или иначе: речь теперь вовсе не об «обществе» и «руководстве». Речь — о мудром отце и неразумных детях, которых следует оградить от пагубного влияния третьих лиц.
Вам прямо говорят: вы — дети. И какое вам, прости Господи, самоуправление?
________________________________
Больше интересного – в Телеграм канале: t.me/gromovaty/
Добро пожаловать в эпоху #онижедетей, — эволюционной вехи, где взрослый самец Homo sapiens, с виду ещё напоминающий мужчину, оказывается всего лишь переросшим младенцем в костюме человека. Почему он всё ещё живёт с мамой? Очевидно же — там уютнее. Но не думайте, что он ленив — он стратег, мать его! Зачем напрягаться, когда можно растянуть детство до пенсии, наслаждаясь бесконечным потоком тёплых маминых котлет?
Взрослость? Это миф, придуманный бухгалтерами и производителями ежедневников. Ответственность? Это для наивных лохов, которые всё ещё верят, что нужно платить налоги и вообще во взрослую жизнь.
Наш герой не из таких. Удобно устроившись на диване в мягкой зоне комфорта, где за окнами бушует реальный мир, он с ложкой борща и бесплатным Wi-Fi глубоко погружён в саморазвитие.
Бодхи в тапочках.
Мамина кухня — его командный пункт, диван — поле битвы за контроль над пультом. Пока остальные копят на ипотеку и учатся распознавать эмоциональные триггеры партнёров, он мастерски штурмует новые уровни в своей любимой игре, где единственная угроза — это то, что интернет внезапно ляжет.
Как же так вышло?
Элементарно: мужской архетип размазали тонким слоем, как утренний маргарин по социокультурному тосту. Воспитание мальчиков ныне — феминная монокультура. Женщины — дома, в школе, в детсаду — режиссируют спектакль под условным названием Будь добрым, слушайся, не мешай. Отец? Декорация. Эпизод. Фоном шуршит.
Так вместо полководцев, способных принимать решения и брать на себя риски, мы получили идеальных солдатиков: вежливых, подавленных и запрограммированных угождать всему на свете, кроме собственных интересов.
Это не деградация. Это метаморфоза. Эволюция в сторону мягкотелого комфорта, где за героизм теперь считается прожить день, не забыв зарядку для телефона и не доведя маму до сердечного приступа.
Думаете, это локальный сбой в матрице? Да ладно. Загляните в Японию — страну, где технологии маршируют бодрым шагом, а культурный прогресс плетётся сзади, шаркая по асфальту и спотыкаясь об оптоволокно. Здесь вовсю процветает культ хикикомори — мальчиков-призраков, добровольно погребённых под слоями экранов, аниме-подушек и экзистенциального нытья мир меня не понял.
Папа в офисе до полуночи, мама — официантка при нём, подающая обед к дверям, будто это келья, а не спальня. Результат? Целое поколение мужчин, которых пугает не то что налоговая — их парализует сама мысль о том, что за дверью вообще есть улица.
Но давайте не будем валить всё на японцев. Европейцы тоже не подкачали. У немцев — Nesthocker, что дословно: гнездосидельцы. Эти милые птенчики прочно встроились в систему материнского всё включено: бесплатное проживание, регулярное кормление и климат-контроль из маминых забот. Их девиз: Если гнездо тёплое — зачем вылетать?
Итальянцы — эстетствующие чемпионы в этой дисциплине. Их bamboccioni — буквально здоровенные младенцы. Вылизанные, надушенные, с шелковым галстуком и гладко выбритым лицом, в котором читается тонкое презрение к любым формам самообеспечения. Они мягко тают в объятиях мамы, как пармезан под тосканским солнцем.
Зачем рисковать на рынке труда, когда есть рынок семейного уюта?
А теперь вернёмся к нашим — нет, не баранам, — к кидалтам (от kid + adult). Россия — идеальный инкубатор для взрослых детей, которые прячутся за мамину юбку, словно за свинцовый щит от суровой реальности. Карьера? Потом. Отношения? Слишком энергозатратно. Ответственность? Нет-нет, у меня на неё хроническая аллергия. Взрослая жизнь для них — как ледяной душ: пусть в него ныряют другие, а они выбирают тёплую пенную ванну иллюзий и, конечно же, — танчики.
И вот он — усреднённый российский пацан за тридцать, упорно живущий в родительской квартире, потому что мир такой жестокий, а мама уже купила ему PlayStation. Это не просто социальная динамика — это эпидемия инфантильности. Вместо того чтобы строить реальное будущее, они строят цифровые крепости в онлайн-мирах, где можно быть кем угодно — кроме самого себя. Реальность невыносима, зато в игре можно наконец почувствовать, что ты хоть что-то контролируешь. Например, экономику королевства орков.
А теперь представьте, как эти вечные мальчики встраиваются в общество. Ах, это не просто интеграция — это настоящая комедия. Современный мужчина — главный объект для насмешек, мем с ногами, по умолчанию виноватый и по совместительству идиот. В медиа он — неуклюжий придурок, нелепый клоун, неспособный заменить лампочку без панической атаки и просмотра ролика на YouTube. А вот женщины в кадре — супергероини без единого бага: всезнающие, всесильные, с IQ под 200 и встроенной подпиской на ответы на все вопросы.
Вот она — эволюция мужественности! От спартанских воинов до диванных стратегов — путь, достойный Дарвина. Раньше юноша становился мужчиной, пройдя инициацию через огонь и ад: доказав, что ответственность — это не опция в меню жизни, а главное блюдо. Российская Империя не предлагала лайтовых опций: хочешь быть взрослым? Добро пожаловать в армию, сынок. Не нравится? Тогда женись и корми семью, а не свой Steam-аккаунт.
А когда-то ведь Спарта была мастером жёсткого подхода: выживаешь — красавчик, нет — ну, значит, это не твоя война. Никто не ныл про эмоциональные триггеры, травмированное эго и регрессию сознания. Не анализировал нераспознанные части психики и инфантильное я, требующее валидации. Там знали: зрелость — это не право, это обязанность. Это когда перестаёшь спрашивать, готов ли я, и просто идёшь — через боль, страх, неудобство. Настоящее взросление начинается там, где заканчивается комфорт.
Хотите увидеть рудименты настоящего мужского становления? Взгляните на тех, кого цивилизация ещё не убедила, что можно взрослеть с доставкой на дом. В африканских племенах подростков выгоняют в пышущую жаром и полную хищников саванну: выживешь — мужчина, не выживешь — не герой этой истории. У индейцев Амазонии мальчишки уходят в лес на месяцы, чтобы столкнуться с духами — и с собой. Масаи из Кении до сих пор предлагают юношам завалить льва голыми руками — никакого уютного маминого пледика, только инстинкты и сталь в глазах.
А племя сатере-маве, где мальчиков заставляют на несколько часов надевать перчатки с особыми муравьями, укусы которых сравнимы с адским огнём, вполне могло бы стать причиной флешмоба #StopTheRituals.
Жёстко? Возможно. Зато честно. Без вот этой всей пурги про токсичную маскулинность, которой так любят размахивать, словно она автоматически снимает с мужчины обязанность быть мужчиной.
Ритуалы взросления — это не дикий экстрим для телешоу на выживание. Это культурные клейма, маркеры, аккуратно выжженные на гранях психики, чтобы дать понять: всё, детство закончилось, пора брать в руки не джойстик, а реальность. Ты — уже не просто потребитель заботы, ты — её источник. Отныне отвечаешь не только за себя, но и за тех, кто рядом.
Когда-то взросление означало переход. Конкретный, жёсткий, осязаемый — через боль, страх, голод или хотя бы серьёзный разговор с отцом. Сейчас эту границу стерли, как историю браузера перед свиданием. В результате — поколение тридцатипятилетних детей: не в состоянии оплатить коммуналку, но зато способные развернуть трёхчасовую дискуссию о поиске себя в комментариях к видео про тёмную триаду.
Мы решили, что мужчина вырастет сам по себе, если его окружить заботой, укутать в флисовый комфорт и подпитать лайками в Instagram. Как в той сказке: гадкий утёнок однажды проснётся грациозным лебедем. Ну-ну. Без огня — нет закалки. Без давления — нет формы. Без вызова — нет мужчины. Нет!
Есть только тревожный ребёнок-нытик, засевший в теле взрослого, которое давно просится жить по возрасту, а не по уровню уюта.
Все эти варварские обряды взросления были не изуверством, а курсом молодого бойца по мужской стойкости. Практика выживания в реальном мире, упакованная в форму культуры. Мы же отказались от них как от старых VHS-кассет — устарело, мол, несовременно. А взамен что? Курсы по прокачке внутреннего ребёнка — LOL! — и марафоны по принятию себя таким, какой ты есть — желательно без усилий.
Пусть. Пусть мальчики растут в теплицах — только потом не удивляйтесь, что урожай годится только на компост.
Перед нами — не просто поколение, а целая армия мужчин, которые вздрагивают при слове ответственность так, будто это страшное проклятие на древнем языке пришельцев с планеты Нибиру. Переход во взрослую жизнь для них — страшнее, чем встреча с тем самым масайским львом. А выйти из зоны комфорта? Да проще умереть.
Лидерство, что с этим? Вот тут не смешите — для этого нужно принимать решения, а они до сих пор не могут выбрать, что заказать на ужин и какого цвета одеть носки без маминого одобрения. Мы получили поколение, неспособное быть ни опорой, ни примером, ни даже полноценным участником взрослой игры. Эти люди не держат на себе ни семьи, ни экономику, ни — зачастую — собственные штаны.
В итоге, этот новенький #онжеребёнок — это уже не просто комичный мем. Это ходячий монумент системной ошибки, продукт культуры, в которой взросление — факультативное, мужественность — подозрительная, а слабость — модная. Такие юноши не создают ничего нового и, уж точно, не готовы сражаться за идеалы.
И кто же всё это будет исправлять? Правильно. Никто. Потому что исправлять — это тяжело. А тяжело — это страшно. А страшно — это… ну вы поняли. Лучше пролистать, переключить, забыть.
Только вот если все мужчины останутся мальчиками, то кто будет тем, к кому хочется прислониться в бурю? Кто поднимет, когда всё рухнет? Кто вообще удержит этот хрупкий мир от окончательной инфантилизации? Ведь если не останется сильных — останутся только удобные. Удобные, но бесполезные. Те, кто не создаёт, не защищает, не двигает вперёд. Максимум усилий — апдейт профиля и эпичная катка в танчиках. А смысл?
Да кому, в конце концов, какое дело? У нас же есть мемы, вайбы и бесконечная лента в TikTok. Этого должно хватить, чтобы построить светлое будущее.
Как думаете?
__________________
Это была глава из книги Социоприматы.
А теперь – к сути.
Наблюдаю печальный тренд: инфантилизация крепчает, особенно у части завсегдатаев ресурса. Печально смотреть, как взрослые тела ползут в повадках на уровень пятилеток. Люди без малейших признаков воспитания лезут в комменты с бойким ты, требуют, наезжают, хамят – и искренне полагают, что это норма. Дескать, мы ж тут все свои.
Ребята. В чём вообще разница между культурным человеком и простым мужичьём?
Всё до смешного просто. Мужику не доверяли оружие – его максимум был кулак. Так и повелось: кулачный бой – утеха для черни, средний и высший класс решали вопросы иначе. Англичане придумали бокс – чтобы бывшие крестьяне лупили друг другу морды по правилам, не под лавкой, а под свисток судьи. Благородство с формой, но без содержания.
Простолюдины дрались руками, потому что им не полагалось больше ничего. Кулаки – единственное оружие, разрешённое низам. Чтобы били примитивно, грубо, но – безопасно для системы. Отсюда и пошло: кто ты по жизни? – мужик с руками. Красиво? Вряд ли.
Как ещё можно узнать мужика-хама? Всё просто – по тыканью.
Вот, например, “Мужикъ всякому тыкаетъ. [...] Ты меня не тычь, я тебе не Иван Кузьмич” – Даль. Или у Пушкина: “…о хамовом племени: боюсь людей у тебя мало, не найдёшь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с мужчинами как тебе ладить?” – всё по делу. Потому что хам – он же мужик, он же чернь, он же – холоп, быдло, поганец, люмпен, мужлан, плебей — всегда старается говорить с мужчиной на своём коровьем языке. Но скажите на милость: зачем мужчине разговаривать с мужиком?
И правда – незачем. Так что ответа не ждите.
А есть ещё один типаж – особенно весёлый: аноним впрыгивает в комменты сразу с оскорблений, потом в анально-фекальный регистр, с ходу под стол – и оттуда визжит, укусить пытается. Тут уже не инфантилизм – тут прямо полный диагностический набор. В реальной жизни такому девианту не только руки не подают – рядом стоять неуютно. Не по Сеньке шапка, а уж тем более не ему в спор вступать.
Есть и те, кто идёт по протоколу проекций: тебе, мол, бабы не дают, либидо не пристроено, нормальной женщины не встречал – и дальше по списку. Но вся эта психоаналитическая самодеятельность по шаблону скорее говорит о них, чем обо мне. Друзья, всё у меня нормально. То, о чём я писал (начало тут >>) – не про гормональный голод. Речь про то, что строится годами, держится болью, проверяется верностью и несётся как крест – а не выкладывается на витрину с фильтрами. Это территория зрелых отношений, а не гормональных всплесков. Так что – мимо.
Я писал уже, откуда всё это. Эпидемия инфантилизма началась в тот момент, когда рухнули механизмы инициации. Когда быть мужчиной перестало быть ценностью. Когда взрослеть стало не модно.
Сегодня каждый безымянный хам считает себя вправе лезть в личное – тыкать, сыпать дешевыми обобщениями, кидаться навозом наугад, как деревенский подросток на сельском сходе. Но за всей этой агрессией – не сила, а уязвимость. Ведь попытки уколоть – это не нападение, а крик боли. Это детский жест: посмотри на меня, я тоже чувствую, я злюсь, потому что мне страшно, обидно, тоскливо, больно.
Не выросли. Оскорбление – форма общения. Анонимность – последний щит, когда нет ни чести, ни лица. Ударить – можно. Ответить – не умеют. Не говорят – кричат из-под плинтуса.
И вот мы здесь – в эпохе #онижедети.
А ведь была же Belle Époque – эпоха, когда слова стоили дорого, и каждое оскорбление вело к логическому финалу – дуэли. Тогда по улицам ходили мужчины, которые знали цену достоинству. Сегодня вместо мужчин – недоросли с интернет-доступом и маминой самооценкой.
Так что да, инфантилизм – это уже не возраст. Это диагноз.
Люди рождаются, растут, заводят семьи, стареют и умирают – так ни разу и не выбравшись из собственных пелёнок.
________________________________
Больше интересного – в Телеграм канале: t.me/gromovaty/