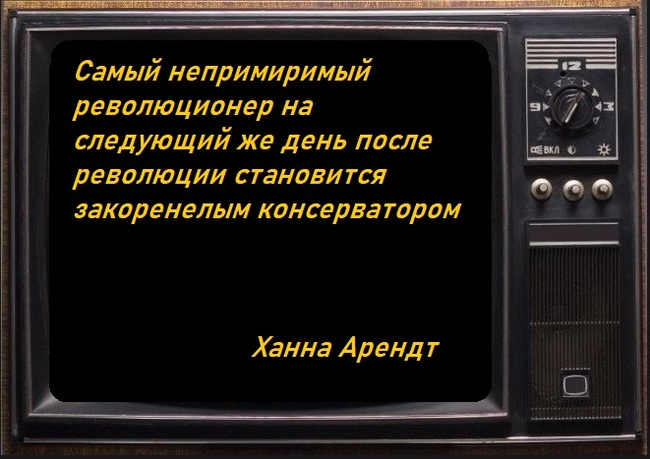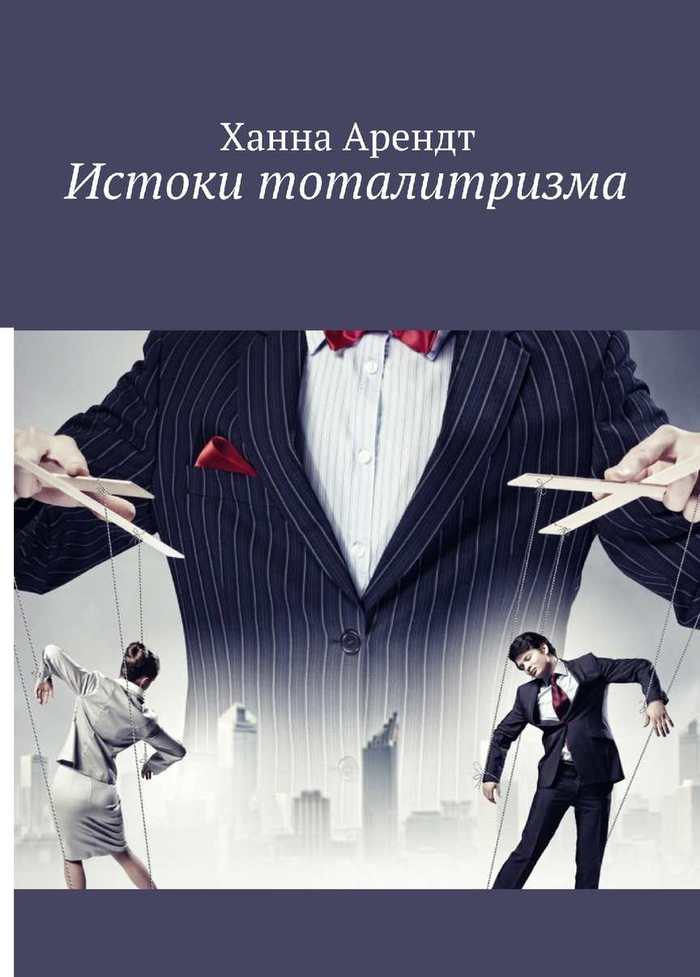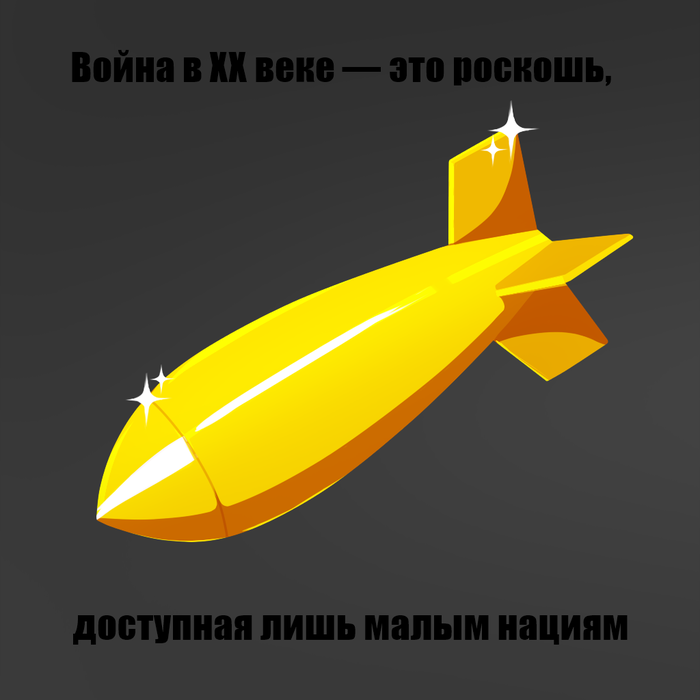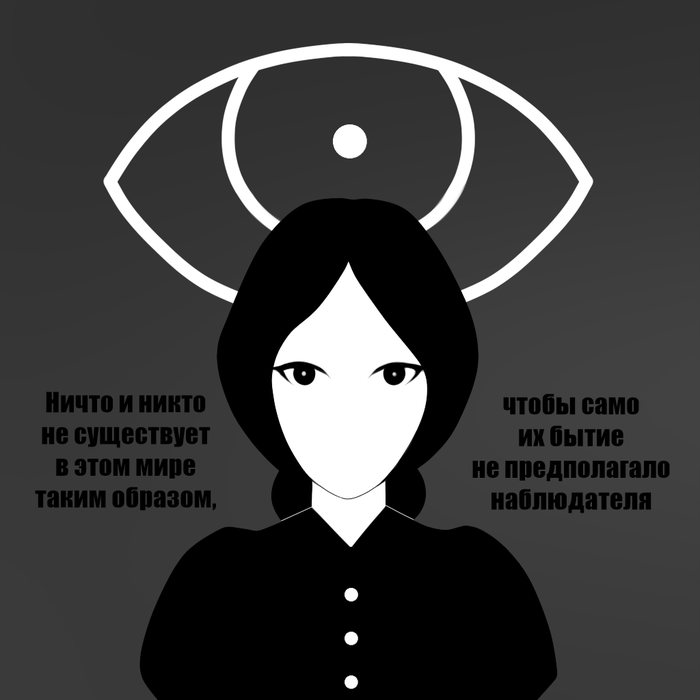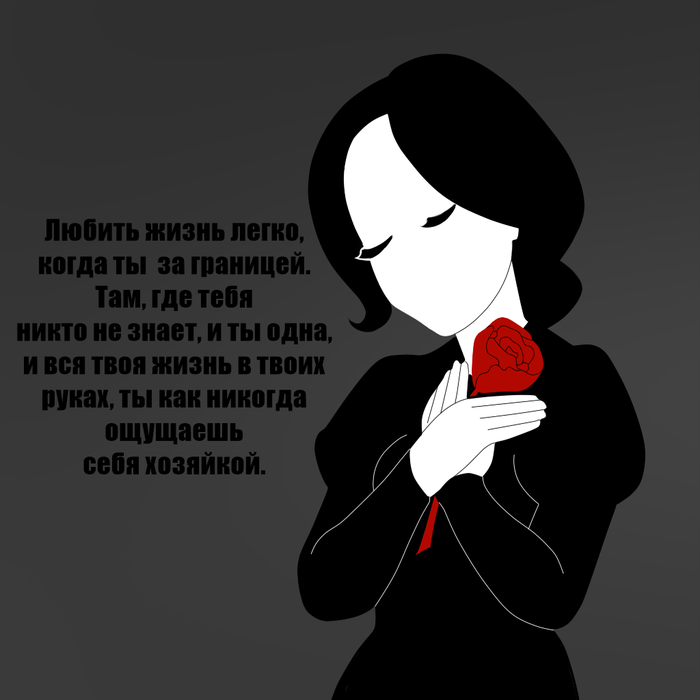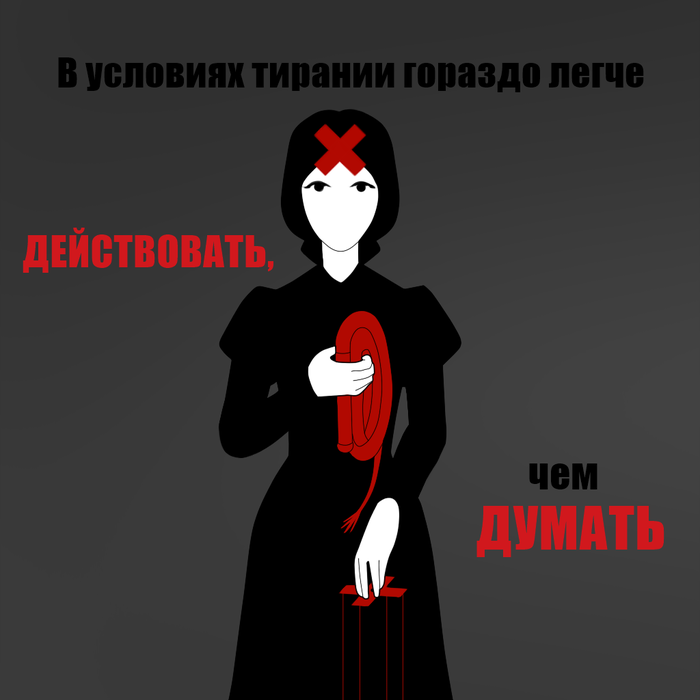Критика экономического разума Ханной Арендт – Сергей Ребров | Лекции по политической философии
Чем интересна Ханна Арендт как политический философ? Каково правильное понимание сущности политики, с её точки зрения? Почему Арендт критиковала понимание политики и «политического» Карла Шмидта? Чему посвящена её книга «Банальность зла» и почему она вызвала такой резонанс?
Рассказывает Сергей Ребров, историк политической философии, младший научный сотрудник Социологического института РАН — филиала Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (Санкт-Петербург).
«Человек толпы»: как одиночество и уединение помогают нам принимать независимые решения
Шумная толпа или тихое уединение? О преимуществах второго рассказывает Дженнифер Ститт, кандидат наук в области интеллектуальной истории США в Университете Висконсин-Мэдисон. Опираясь на философские труды Ханны Арендт и идеи Эдгара Алана По, она показывает важность выделять время для одиночества — особенно в современном мире, где главенствуют соцсети и постоянная жажда «включения». Кроме того, автор размышляет, в чем разница между уединением и одиночеством, к чему может привести неумение человека остановиться и подумать, как одиночество становится практикой, которая подготавливает нас к участию в общественной и политической жизни, и почему быть человеком толпы — величайшее преступление.В 1840 году Эдгар Аллан По описал «безумную энергию» старика, который бродил по улицам Лондона от заката до рассвета. Свое мучительное отчаяние он мог временно облегчить, только лишь погрузившись в бурную толпу горожан. «Он не может оставаться наедине с самим собою, — писал По. — Он тип величайшего преступника… Он человек толпы».
Как многие поэты и философы разных столетий, По подчеркивал значение одиночества. Это было «такое большое несчастье», считал он, потерять способность быть наедине с собой, оказаться захваченным толпой, отказаться от своей уникальности в пользу скучного соответствия. Два десятилетия спустя идея одиночества поразила воображение Ральфа Уолдо Эмерсона несколько иным образом. Цитируя Пифагора, он писал:
«Утром — одиночество; <…> тогда природа может говорить с воображением так, как никогда не говорит в компании».
Эмерсон призвал мудрейших учителей обратить внимание своих учеников на важность наличия «периодов и привычек одиночества», — привычек, которые делали возможной «серьезную и отвлеченную мысль».
В XX веке идея одиночества стала центральной в философии Ханны Арендт. Немецко-еврейская эмигрантка, бежавшая от нацизма и нашедшая убежище в Соединенных Штатах, Арендт провела большую часть своей жизни, изучая отношения между человеком и полисом. Для нее свобода была привязана как к частной сфере (vita contemplativa), так и к сфере общественно-политической (vita activa). Она поняла, что свобода подразумевает нечто большее, чем способность человека действовать на публике спонтанно и креативно. Это также способность думать и выносить суждения наедине, когда одиночество дает человеку возможность обдумывать свои действия и развивать свою совесть, избегая какофонии толпы — чтобы, наконец, услышать свои собственные мысли.
В 1961 году журнал «The New Yorker» поручил Арендт осветить процесс над Адольфом Эйхманом, офицером СС, который помог организовать Холокост. Арендт хотела знать, как кто-то мог совершить такое зло? Конечно, только отъявленный социопат мог участвовать в Холокосте. Но Арендт была удивлена слабостью воображения Эйхмана, его непревзойденной условностью. Она утверждала, что хотя действия Эйхмана были ужасными, но сам Эйхман как человек, как личность был довольно-таки обычным, ни демоническим, ни чудовищным. В нем не было никаких признаков стойких идеологических убеждений. Она приписывала его безнравственность — его способность, даже рвение совершать преступления — его «легкомыслию». Именно его неспособность остановиться и подумать допустила Эйхмана до участия в массовых убийствах.
Как По подозревал, что в человеке толпы скрывается нечто зловещее, так и Арендт осознавала, что:
«Человек, который не знает этого тихого общения (в котором мы анализируем наши слова и поступки), не будет против того, чтобы противоречить самому себе, и это означает, что он никогда не сможет объяснить своих слов и поступков; и при этом он не будет возражать против совершения какого-либо преступления, поскольку он может рассчитывать на то, что в следующую секунду оно будет забыто».
Эйхман избегал сократовской саморефлексии. Он не мог вернуться домой к себе, не мог пребывать в состоянии одиночества. Он отказался от vita contemplativa, и поэтому не смог приступить к необходимому сеансу вопросов-ответов, который позволил бы ему изучить значение вещей, провести различие между фактом и вымыслом, правдой и ложью, добром и злом.
«Лучше страдать неправильно, чем поступать неправильно, — писала Арендт, — потому что вы можете оставаться другом страдающего; но кто хотел бы быть другом убийцы или жить вместе с ним? Даже не другой убийца».
Однако это вовсе не значит, что все легкомысленные люди — монстры, и что печальные лунатики мира скорее совершат убийство, чем окажутся в одиночестве. Эйхман показал Арендт, что общество может функционировать свободно и демократично, только если оно состоит из людей, занимающихся мыслительной деятельностью — деятельностью, требующей одиночества. Арендт считала, что «жизнь вместе с другими начинается с совместной жизни с самим собой».
Но возникает вопрос — что, если мы одиноки в нашем уединении? Нет ли опасности стать изолированными людьми, отрезанными от радостей дружбы? Философы давно обозначают тщательное и важное различие между уединением и одиночеством. В «Государстве» (ок. 380 г. до н.э.) Платон предложил притчу, в которой Сократ прославляет одинокого философа. В аллегории пещеры философ убегает от тьмы подземного логова — и из компании других людей — к солнечному свету созерцательной мысли. В одиночку, но не в одиночестве, философ настраивается на свою внутреннюю сущность и мир. В одиночестве беззвучный диалог, «который душа поддерживает сама с собой», наконец становится слышимым.
Повторяя Платона, Арендт заметила:
«Мышление, если говорить экзистенциально, является уединенным, но не одиноким делом; уединение — это та человеческая ситуация, при которой я сама себе компания. Одиночество наступает <…>, когда я одна и без компании», но когда мы желаем этого, и не можем обрести.
В уединении Арендт никогда не жаждала установления дружеских отношений, потому что в такие моменты она никогда не была по-настоящему одинока. Ее внутренний мир был тем другом, с которым она могла вести беседу, тем молчаливым голосом, который задавал жизненно важный вопрос Сократа: «Что вы имеете в виду, когда говорите…?»
«Твое “я”, — заявила Арендт, — единственное, от кого ты никогда не сможешь уйти — если только не перестанешь думать».
Сейчас стоит вспомнить предупреждение Арендт. В нашем гиперсвязанном мире, в котором мы можем постоянно и мгновенно общаться через Интернет, мы нередко забываем выделить время и место для уединения. Мы проверяем нашу электронную почту сотни раз в день; мы отправляем тысячи текстовых сообщений в месяц; мы одержимо пролистываем Твиттер, Фейсбук и Инстаграм, стремясь постоянно общаться с близкими и случайными знакомыми. Мы ищем друзей наших друзей, бывших любовников, людей, которых мы едва знаем, людей, которых мы не знаем вообще. Мы жаждем постоянного общения.
Но, как напоминает нам Арендт, когда мы теряем способность быть в одиночестве и способность оставаться наедине с собой, тогда же мы теряем способность мыслить. Мы рискуем оказаться в толпе. Мы рискуем быть «сметенными», как она выразилась, «тем, чем все остальные занимаются и во что они верят», — после этого мы, заточенные в клетке бездумного соответствия, более не способны отличать «правильное от неправильного, красивое от уродливого». Одиночество — это не только состояние ума, необходимое для развития сознания и совести человека, но и практика, которая подготавливает нас к участию в общественной и политической жизни. Прежде чем мы сможем поддерживать отношения с другими, мы должны научиться поддерживать отношения с самими собой.
Права человека
Вскоре после принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году было опубликовано эссе Ханны Арендт под названием «Права человека: какие они?» позже оно вошло в девятую главу Истоков тоталитаризма. В своей работе Арендт утверждает, что сама декларация олицетворяет противоречие: декларация требует от государств защищать «универсальные» и «неотъемлемые» права всех людей, в то время как современный институт государства основан на принципе национального и территориального суверенитета. Этот парадокс, по ее словам, может быть разрешен только путем признания «права на права» в качестве юридически-политической предпосылки защиты других прав человека. Тем не менее, точное понимание права иметь права требует более тщательного изучения.
Во-первых, Всеобщая декларация основана на абстрактной концепции человека, в то время как нет гарантий прав человека вне политического сообщества.
По мнению Арендт, проблематичный характер прав человека глубоко укоренен в большем признании суверенитета наций нежели суверенитета отдельных лиц. По ее словам, весь проект универсальных прав человека рассматривает человека как сущность, над которой нет более высокой власти кроме её самой. С исторической точки зрения, Французская декларация прав человека и гражданина (1789 г.) была первым документом, включающим абстрактное понимание человека. Такое абстрактное понимание человека предполагает, что он сам, а не Бог или естественные иерархии, должна быть источником человеческого закона. Требование ВДПЧ относительно неотъемлемости прав следует тому же подходу и подразумевает, что установленные права не зависят от какого-либо высшего органа власти. Теоретически, хотя источник права и управления может быть сведен к индивидуальному суверенитету людей, реальным источником права и управления являются люди определенной территории, а не отдельные лица. В результате обещанные «неотъемлемые» права человека могут найти свою гарантию только в коллективном праве на самоуправление, которым обладают люди определенной территории: нации.
Поскольку права человека были объявлены «неотчуждаемыми», несводимыми к другим правам и законам и невыводимыми из них, то для их утверждения не был потревожен ни один авторитет. Сам человек стал их источником, так же как их конечной целью. Более того, считалось, что для их обоснования не нужна никакая специальная отрасль правоведения, поскольку все законы предполагались построенными на них. Человек выступал единственным сувереном в сфере права, подобно тому как народ был объявлен единственным сувереном в сфере правления. Суверенитет «народа» (в отличие от суверенитета «князя») провозглашался не «милостью Божьей», а во имя человека, так что казалось вполне естественным, чтобы «неотчуждаемые» права человека стали неотчуждаемой частью права народа на суверенное самоуправление и нашли в нем свою гарантию.
С самого начала в декларации неотчуждаемых прав человека присутствовал тот парадокс, что она оперировала с «абстрактным» человеческим существом, по-видимому нигде не существующим, ибо даже дикари жили в некоторого рода социальном порядке.
постепенно сделалось самоочевидным, что образ человека воплощает народ, а не индивид.
В рамках парадигмы демократического национального государства каждый человек обладает суверенитетом, и, поскольку предполагается, что все люди равны, они должны делиться своим суверенитетом в рамках государства, чтобы помешать одной группе доминировать над другими. Индивидуальный суверенитет может функционировать через национальный суверенитет людей. Следовательно, единственный возможный способ для человека защитить свои права подразумевает членство в политическом сообществе. Хотя Всеобщая декларация прав человека представляет человека, который извлечен из всех ее социальных и политических отношений, как субъект универсальных и неотъемлемых прав, именно человек, в смысле члена политического сообщества, лежит в основе прав человека. При этом государство как единственный институт, который должен защищать и гарантировать права отдельных лиц, становится инструментом нации, а не защитником прав личности.
Второе: права человека теряют всю свою значимость, как только человек теряет свой политический контекст.
Неотъемлемость прав человека основывается на предположении, что они независимы от всех национальных государств. Тем не менее, эта идея была в корне искажена, когда в 20-м веке миллионы людей потеряли свое гражданство, и не осталось ни авторитета, ни института, который бы гарантировал их права. Появление многочисленных лиц без гражданства и беженцев в конце Первой мировой войны демонстрирует, как нарушение правовых отношений между государством и лицами без гражданства приводит к их исключению из сферы гражданства и, следовательно, из правовой сфере защиты прав человека. Поскольку национальное государство является единственным юридическим органом, который может эффективно признавать и обеспечивать права человека, весь дискурс о правах человека теряет свое значение для тех, кто в результате эмиграции перестает принадлежать к какому-либо национальному государству. Поэтому тот, кто перестает считаться гражданином определенного государства, теряет не только свои гражданские права в этом конкретном государстве, но также - как это ни парадоксально - ее универсальные и неотъемлемые права человека. Это, в свою очередь, доказывает, что права фактически «отчуждаются» от людей, когда они теряют свой политический контекст.
В конце концов, права человека определяли как «неотчуждаемые» потому, что предполагали их независимость от всех правительств. Но это обернулось тем, что с момента, когда люди теряли свое правительство и надеялись удержать хотя бы минимум общечеловеческих прав, не оставалось ни одной авторитетной власти, чтобы защитить эти права, и ни одного института, пожелавшего бы гарантировать их.
Первая потеря, от которой страдали бесправные, — это потеря своего дома, что означало и полную потерю той социальной среды, в которой они родились и нашли себе место в мире. Это бедствие далеко не ново. В долговременной исторической памяти вынужденные перемещения отдельных людей или целых групп по политическим или экономическим причинам выглядят как обыденные явления. Новизна здесь — не в потере дома, а в невозможности найти новый дом. Вдруг не нашлось ни места на земле, где мигранты могли бы приткнуться без суровейших ограничений, ни страны, где они смогли бы ассимилироваться, ни территории, где можно было бы найти свое собственное новое сообщество.
оказывался выброшенным и из семьи народов тоже
Вторая потеря, от которой страдали бесправные, была утрата правительственной защиты
(так, во время последней войны безгосударственные люди неизменно попадали в худшее положение, чем «враждебные иностранцы», которых еще косвенно защищали их правительства через Международные соглашения).
Солдат во время войны лишен своего права на жизнь, преступник — права на свободу, все граждане во времена чрезвычайного положения — их права на поиски счастья, но никто не скажет, будто во всех этих случаях имела место полная утрата человеческих прав. В то же время, эти права могут быть признаваемы (хотя едва ли используемы) даже в условиях основательного бесправия.
Беда бесправных не в том, что они лишены права на жизнь, свободу и стремление к счастью либо равенства перед законом и свободы мнений (формул, которые были составлены, чтобы решать проблемы внутри данных сообществ), а в том, что они вообще больше не принадлежат ни к какому сообществу. Их проклятие не в том, что они не равны перед законом, а в том, что для них не существует никакого закона; не в том, что они угнетены, а в том, что никто не хочет даже угнетать их.
Даже нацисты начинали свое истребление евреев с лишения их всякого правового положения (статуса второсортного гражданства) и отделения их от мира живых стадным загоном в гетто и концентрационные лагеря. И прежде чем пустить в ход газовые камеры, они тщательно прощупывали почву и находили, к своему удовлетворению, что ни одна страна не претендует на этих людей. Суть именно в том, чтобы создать условия полного бесправия, прежде чем оспорить право человека на жизнь.
ибо не существует законов, которые могли бы принудить нации кормить их; свобода передвижения, если она вообще есть у них, не дает им права на постоянное местожительство, которым пользуются, как само собой разумеющимся, даже заключенные преступники; и их свобода мнений — это шутовская свобода, ибо то, что они думают, в любом случае ничего не значит.
Третье. Право иметь права должно быть признано в качестве предварительного условия защиты прав человека.
Арендт считает что сущность человека как члена политического сообщества в состоянии, действовать политически и свободно выражать своё мнение. Здесь политический аспект соответствует экзистенциальному состоянию человека, который по определению живет в сообществе, а лингвистический аспект связан с человеческой природой свободно выражать своё мнение и мыслить. Арендт утверждает, что достоинство человека основывается на ее политико-языковом существовании, а именно на ее способности говорить, судить и действовать. Эти возможности по существу возникают и развиваются в сообществе с другими людьми.
Появление современных прав человека и разработка соответствующих деклараций в рамках парадигмы национальных государств подразумевает, что принадлежность к политическому сообществу необходима для реализации основных условий достойной человеческой жизни и, следовательно, эффективной защиты прав человека. Короче говоря, права человека - это «права членов»: тех, кого уже считают членами политического сообщества. Поэтому Арендт предполагает, что должно быть право человека принадлежать к политическому сообществу для всех людей в качестве предварительного условия защиты других прав человека. Иными словами, права человека должны рассматриваться в первую очередь как право на членство в каком-либо политическом сообществе, а не просто как права тех, кто уже принадлежит к политическому сообществу.
Равенство, в отличие от всего, что входит в простое существование, не дано нам, но есть результат человеческой организации, поскольку она руководствуется принципом справедливости. Мы не рождены равными; мы становимся равными как члены какой-то группы в силу нашего решения взаимно гарантировать друг другу равные права.
Если негра в белой общине считают только негром и больше ничем, он утрачивает наряду с его правом на равенство и ту свободу действия, которая составляет человеческую особенность. Все его поступки теперь объясняют как «необходимые» следствия из неких «негритянских» качеств; он превращен в экземпляр вида животных, именуемых людьми. Почти то же самое происходит с теми, кто потерял все отличительные политические качества и стал человеческой особью и ничем больше.
Парадокс, заключенный в потере человеческих прав, таков, что эта потеря тотчас же совпадает с превращением личности в биологическую особь, в человека вообще — без профессии, без гражданства, без мнения, без дела, по которым можно узнать и выделить самого себя из себе подобных, — и отличающегося от других тоже вообще, не представляя ничего, кроме своей собственной абсолютно уникальной индивидуальности, которая, при отнятой возможности выразиться внутри некоего общечеловеческого мира и воздействовать на него, теряет всякое значение.
Критика Арендт прав человека и идея права на права получили широкий резонанс в правовой и политической теории. Например, Джорджо Агамбен в радикальном прочтении Арендт представил «фигуру беженца» как «предельную концепцию» чтобы переосмыслить границы политического сообщества под парадигмой национального государства и как потенциальное средство выйти за пределы института субъективных прав. Жак Рансьер критически оценил Арендт и оспорил ее различие между политической жизнью гражданина (bios politikos) и неполитической жизнью человека (zoë). Как сказал Рансьер, такое разграничение исключает возможность претендовать на право иметь права для тех, кто лишен политической жизни, и делает права человека «недействительными» или «оправданием для гуманитарных вмешательств».
Преступления против прав человека, ставшие специальностью тоталитарных режимов, всегда можно оправдать под тем предлогом, что право равносильно сотворению добра и пользы для целого, отличаемого от своих частей. (Изречение Гитлера: «Право есть то, что хорошо для немецкого народа» — только вульгаризованная форма концепции законодательства, которую можно найти везде и которая не будет действовать на практике в полную силу лишь до тех пор, пока в конституциях все еще успешно работают более старые традиции, препятствующие этому.) Концепция законодательства, которая отождествляет сущность права с представлением о том, что хорошо для чего-то (индивида, или семьи, или народа, или наибольшего числа людей), становится неизбежной, раз утратили авторитет абсолютные и трансцендентные измерения религии или закона природы. И положение нисколько не улучшится, если единицу, к которой мы прикладываем это «хорошо для», увеличить до человечества в целом. Ибо легко вообразить, даже оставаясь в сфере возможностей практической политики, что в один прекрасный день высокоорганизованное и механизированное человечество весьма демократично придет к заключению — и непременно решением большинства, — что для человечества как целого будет лучше, если ликвидировать определенные его части. Здесь, в этих проблемах реального, фактического мира мы сталкиваемся с одним из старейших затруднений политической философии, которое могло оставаться нераспознанным только до тех пор, пока устоявшаяся христианская теология не дала систему координат для всех политических и философских проблем, но которое давным-давно заставило Платона сказать: «Не человек, но Бог должен быть мерой всех вещей».
Инстаграм философа XX века
Не знаю, нужно ли добавлять в заголовок или теги "Нужна помощь", но:
К экзамену мы должны подготовить определённый проект, и преподавательница решила, что это будет создание аккаунтов философов в инстаграме, где каждый из нас должен выкладывать их цитаты в виде картинок (50-70 постов).
К сожалению, мои "коллеги" умнее меня, потому что лично я решила каждую цитату иллюстрировать. Хотя бы в выдержанной и простой стилистике (жаль, что я не дизайнер).
Мой философ — Ханна Арендт, на аккаунте есть пока что 5 публикаций (потому что у меня не было инсты, и я 2 дня тупила, как добавить картинку), но я должна догнать ещё как минимум 45 штук до 12 января.
Самое проблемное (и то, чего я не понимаю) — главным критерием для оценки является количество подписчиков и лайков.
Если у вас где-нибудь завалялись её любимые цитаты — я обязательно проиллюстрирую их и добавлю.