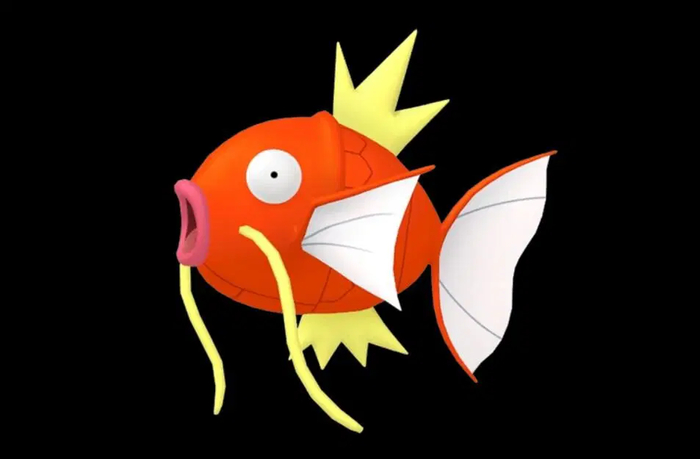— To be is to do! — Socrates.
— To do is to be! — Jean-Paul Sartre.
— To be or not to be! — Shakespeare.
— Do be do be do! — Frank Sinatra.
В начале 2000-х я занимался видеорекламой и в этот период случился мой дебют в жанре анимации — сделал несколько роликов именно анимируя объекты и простеньких персонажей в кадре. Это очень медитативный, завораживающий процесс, мне он невероятно понравился. Условия работы позволяли тщательно подойти и к движению, и характеру.
К мечте попасть в индустрию спецэффектов для кино добавилась ещё одна — мультики, делать мультики. Обе мечты реализовались самым прекрасным образом. Первая привела меня в «Дневной дозор» (об этом - двумя постами ранее: Ответ на пост «Как снимали фильм "Дневной дозор": кадры со съемок и 14 интересных фактов о фильме»), вторая дала мне полугодичное счастье работы над «Знаешь, мама, где я был?», о нём - как-нибудь позже.
Уже после переезда в Москву (2003г), меня позвали на коммерческий анимационный сериал — и это был предельный контраст к тому, как я работал над своими роликами и как себе представлял производство продукции для детей.
Сериал был адаптацией какого-то зарубежного исходника. Все персонажи уже были с заданными характерами — даже не характерами, а характеристиками. Шаги, прыжки, эмоции - всё должно происходить в считанные кадры, персонажи превращались в роботов, а заодно с ними в робота превращался и я. Работа была механическая, поэтому и уволился оттуда довольно быстро. И руку загнанного дедлайнами аниматора отчётливо вижу в современных — даже выглаженных дорогих зарубежных — мультфильмах (ну, может, это только моё ощущение!).
Тогда я впервые задумался о месте мультфильмов в нашем детстве и обнаружил один незаметный парадокс.
Термин «анимация» возник от «anima», душа, дыхание, по-латински. Анимация — буквально — одушевление. Для двигающихся в кадре рисунков и кукол анимация слово подходит лучше всего, очень удачно подходит.
Анимация как термин используется за рубежом, у нас исторически используется слово «мультипликация» — размножение кадров с фазами движения. По сути получается — механистический процесс, лишённый творчества, ремесленничество.
Но именно зарубежный гений Дисней сделал из искусства конвейер. Для увеличения скорости и упрощения производства новых фильмов в его студии разработаны стандарты движений и эмоций. Упрощение производства породило упрощённые характеры, убило оттенки, свело спектр радости и ярости к двум-трём ухмылкам, кочующим из одного фильма в другой, от одного персонажа - ко всем остальным его клонам. Сюжеты разных фильмов идентичны по структуре и ритмике. Можно с секундомером проверять синхронность развития действий в разных лентах.
Это и есть в буквальном смысле — мультипликация.
Из сказки исчезло волшебство жизни. Капиталистический Мидас превратил искусство в золото, искусство испустило душу.
— Do be do be do!
Советские мультики — тёплое ламповое детство. Штучная работа мастеров, за каждым из которых была своя школа. Стерильная от эмоций машина плановой экономики требовала от авторов не хронометраж, а искусство высокого качества. И выработала свои нормы производства, которые — неожиданно! — позволяли авторам оживлять своих персонажей, действительно — одушевлять их. Одушевляли их в любой технике — рисованной, кукольной, пластилиновой. И это — настоящая анимация, в её подлинном смысле. Мы, дети в зрительном зале — чувствовали это в каждом кадре. В каждом кадре ощущался и труд, и любовь к нам — маленьким носителям зарождающегося разума.
Выходит — это у нас была анимация, а мультипликация — у них!
В постперестройку Мидас ворвался и к нам — вооружившись поспевшими технологиями. Мультипликаторы стали аниматорами, у них появились компьютеры, софт, трекеры и обвесы. И — дедлайн!
А там, где DEAD, там, как известно, не до жизни.
К этому времени Мидас изобрёл ещё одно омертвляющее златогонное зло — СЕРИАЛ! Ещё один парадокс — в стосерийном сериале жизни той самой анимы содержится меньше 10-минутного волшебства из советского сборника мультфильмов. В каждом сериальном кадре — технология. Улыбка в три фрейма, удар — в два. Это не улыбка, это не эмоции — это их маркеры, эмблемы. Как бы улыбка, как бы боль. Гэг.
Основной сюжет — падения, погони, драки. Держать зрителя на адреналиновой игле от первого титра до последнего.
А у нас в детстве Чебурашка огорчается и со вздохом опускает уши — 3 секунды. Так мы, дети, на большом экране узнаём о печали, грусти, о желании помочь.
А взгляд Ёжика на дерево в тумане — с пролётом листа — целых 15! Вечность, по нынешним временам! Мы, дети, успеваем осознать то Вечное, о котором потрясённо только что узнал Ёжик. Мы даже запах того туманного дерева успеваем почувствовать, зябкость и зыбкость каждого шага Ёжика.
А теперь посмотрите любой видеоблог с молодым автором, послушайте диалоги в любом студенческом кафе — мимика состоит из тех самых тщательно скопированных сериальных эмблем эмоций, у всех — одинаковые мяукающие интонации. Диалоги состоят из обиходных штампов:
— Она оказалась токсичной чуть более, чем полностью и я от неё сепарировалась. От слова «совсем».
— По красоте!
Поколение «Гэг».
Технологии и дедлайны выхолостили основу там, где новое поколение — ещё в начале жизни! — должно было получить образцы важнейших эмоций, переживаний во всех их оттенках — и в мультфильмах, и, тем более, в сериалах.
Диалог Медвежонка и Ёжика от фразы:
— Ёжик, где ж ты был?
до:
— Ведь кто же кроме тебя звёзды считать будет? — длится минуту! С запыханными охами одного, задумчивыми вздохами второго. Мы — дети —успеваем погрузиться в беспокойство, радость , потрясение и созерцательность, ощутить их переживания героев, научиться этим состояниям.
В сериальном конвейере этому нет ни места, ни времени. Художники, живущие от одного дедлайна до другого, не успевают передать в кадр Теплоту, Чувства, Добро. Только изображения.
И это ещё один из концептуальных смыслов происходящего.
— To be or not to be!
— Мой ребёнок никогда не вешает одежду, он её сбрасывает под ноги и сразу бежит в детскую (на кухню, в зал)! — часто слышу на консультациях.
Порядок — это проявление спокойного мышления, способность осознавать внутреннюю гармонию и воспроизводить её во внешнем мире. В доброте нет хаоса, в доброте всегда присутствует порядок. Как этому можно научиться в конвейерных мультяшках, где всё несётся, шарахается и рушится с огромной скоростью?
Ребёнок же понимает по-своему: раз мне показывают вот это — значит надо быть этому похожим. Он постоянно ищёт образцы для подражания, и такими образцами ему всегда будут мама и папа. И то искусство — книги, картины, песни — которые они ему показывают. И мультики в том числе. Показываете современное бесчувственное бум-бам-бдыщь! — он и будет беспокойно выбегать из текущей, где, по его мнению, действие уже закончилось, в следующую, где, как ему кажется, будет самое интересное. Его внимание не научилось быть в "сейчас", оно только в поиске следующего развлечения.
Где ему будет снова не так страшно, как наедине с собой. Ведь родители — не с ним, а... каждый в своём. В работе, в смартфоне, в интернетике.
— И его невозможно уговорить складывать игрушки! — продолжают встревоженные мамы. — Как его приучить к чистоте?
— Для начала начните смотреть советские мультики. Непременно вместе.
По работе часто переезжаю в разные города, и везде, где мои окна выходили на детские площадки, наблюдаю устойчивый феномен:
— Пусть бегут неуклюже... — слышу голосок едва научившегося говорить симпатичного человечка разумного в сандаликах.
— Прекрасное далёко... Оранжевое небо... — поют дети. Ни разу не слышал от детей незнакомой (а значит — из современного мультика, фильма) песни, абсолютно все песни — советских мультиков! Даже через поколение дети ощущают тепло и добро, заложенное в эти мультики!
Это бабушки смотрят с внуками мультики, на которых выросли сами.
Моё детство снова врывается мне в открытое окно.
Продолжу в следующем посте.