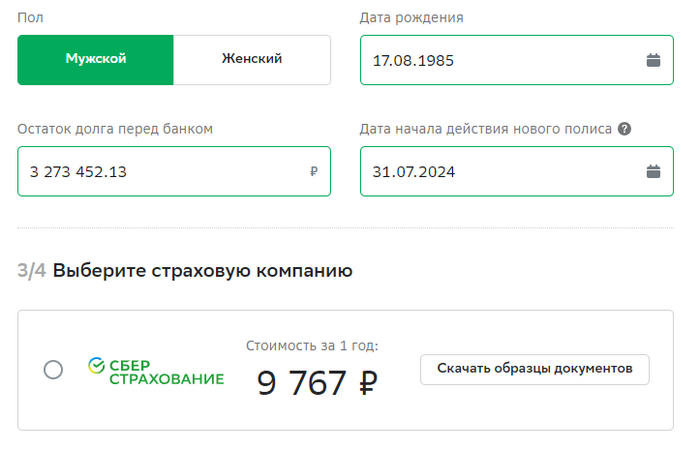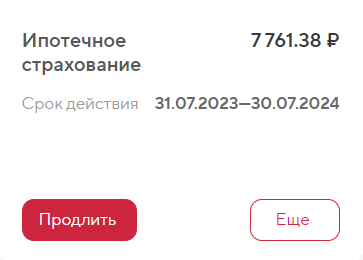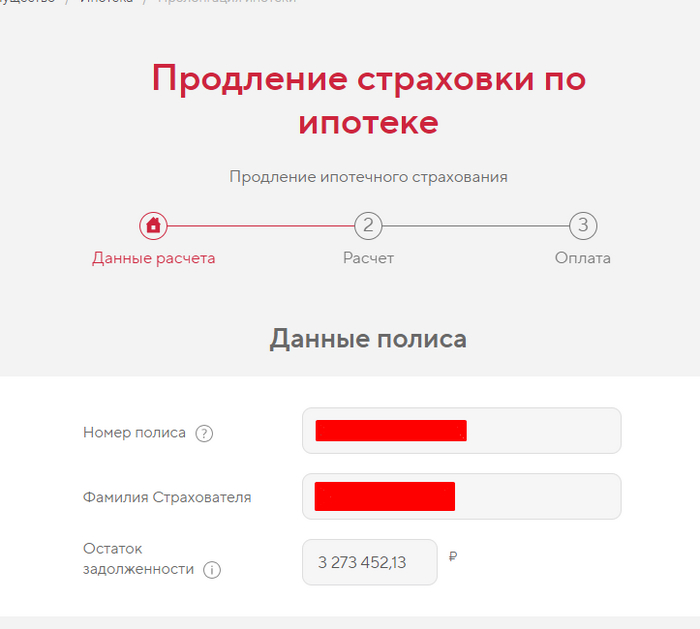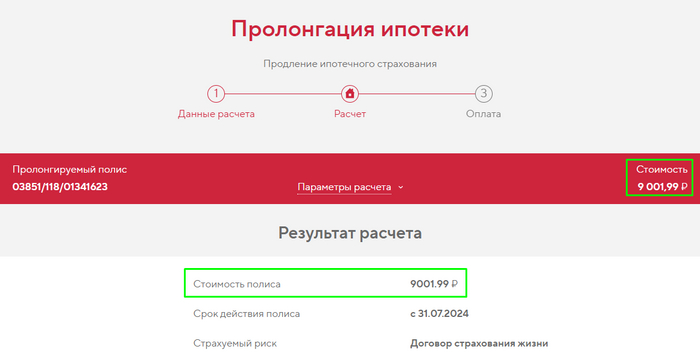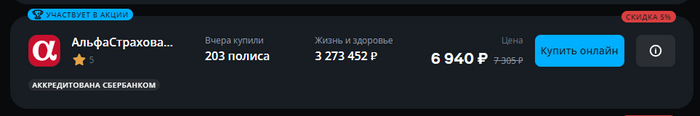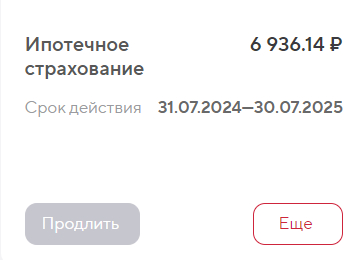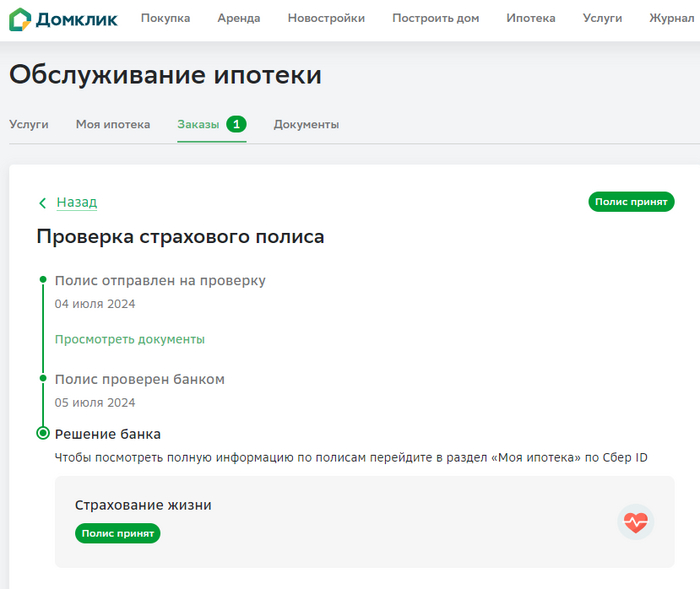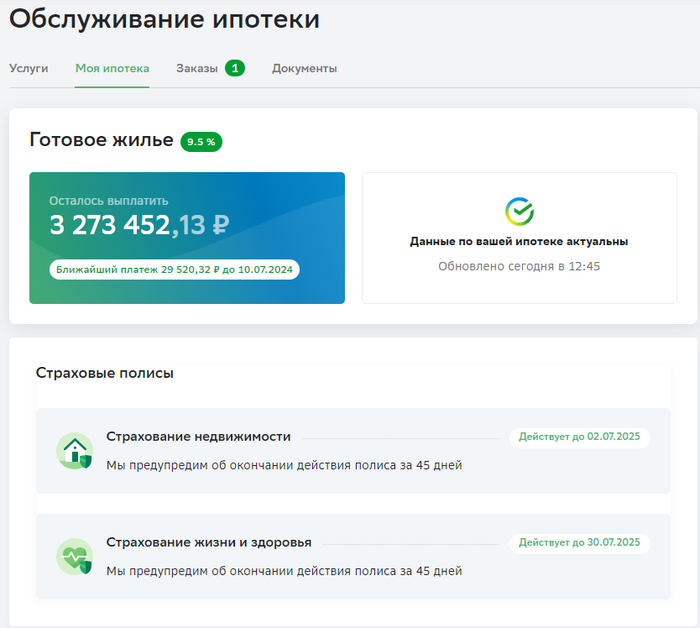– Давай, Крош, твоя очередь!
– Ни фига не моя, Ёжик сачкует.
– У меня даже сачка нет, – улыбается, сверкая прорехами, Ёжик – очкарик Кирилл.
Все смеются в голос, будто услышали лучшую в мире шутку. Смеются долго. Когда звук стихает, Серёга, которого за выступающие передние зубы называют Крошем, начинает заливаться по новой. Сегодня он должен веселиться за двоих.
Ребята подхватывают.
Тёплый июньский вечер как будто только что нарисовали яркой акварелью – так он свеж и ароматен. Ветер, то исчезающий, то вновь появляющийся, хвастливо показывает детям, что только он может быть неслухом. Далёкое небо смеётся фиолетово-оранжевым смехом – никто ему не указ. И лишь солнце дружелюбно подмигивает из-за деревьев, напоминая, что игровой день скоро закончится и наступит время благословенного отдыха.
Игра продолжается. Серёга подходит к длинной тени на щербатом асфальте. Заходящее солнце растянуло тень через всю дорожку.
– Готов?
Серёга кивает. Готов.
Порыв ветра, и тело, висящее на ветке огромного дуба, начинает раскачиваться. Тень на асфальте то приближается к Серёге, то отдаляется. Игра совершенно тупая, но под конец игрового дня сил придумать что-то лучше у ребят не осталось.
– Давай! – кричат они все вместе и снова смеются. Чей-то смех выбивается из хора, срывается на плач, но тут же стихает.
Серёга зажмуривается и прыгает через тень, чувствуя себя тем самым мультяшным кроликом. Он не собирается побеждать – никому не нужна его победа. Впрочем, ничьи победы никому не нужны. Как говорил Серёгин отец: «Главное не победа, а участие». А теперь отец висит в паре метров от него и уже ничего не говорит. И виноват в этом Серёга.
Он перепрыгнул тень, и та не дотягивается следом до его пяток. Ему хлопают.
Серёга едва сдерживает крик. Он понимает: начав, остановиться он уже не сможет. И тогда Они заберут и маму.
Он смотрит на наручные часы. До окончания игрового дня остаётся тридцать семь минут. Серёга в очередной раз, почти бессознательно, проклинает родителей, что родили его, научили улыбаться и превратили в русскую рулетку для самих себя. Взрослые – идиоты, почему они продолжают рожать, зная, чем это заканчивается?
– Ну что, кто следующий?
– Нюша!
Маша, восьмилетка с неопрятными косичками и старческими складками на лбу, улыбаясь, смотрит на детей. До неё доходит, что обращаются к ней. Улыбка идёт рябью, глаза того и гляди вылезут из орбит, нижняя челюсть мелко дрожит, как будто голову поставили в режим вибрации и сейчас кто-то пытается до неё дозвониться. Серёга чувствует, что Маша вот-вот ответит на этот звонок.
– Маш, держись, сейчас отпустит и… – успевает проговорить Серёга, и тут его прерывает набитый стеклянным крошевом безумия высокооктавный крик.
Машу не отпускает. Она срывается с места, бежит в сторону пережёванной временем пятиэтажки. Пару раз падает, не сбиваясь с ноты, поднимается и бежит. Бежит домой: чтобы повидаться с обоими родителями и погадать, кого заберут Они – маму или папу.
– Ну что, продолжаем? – зыбко улыбается Каркарыч.
Его зовут Антон. Он самый старший из них – ему семнадцать. Он помнит времена, когда Они ещё прикидывались людьми и разрешали грустить. Каркарыч – человек-легенда, у которого оба родителя протянули почти до его совершеннолетия.
«Совершеннолетие» – сладкое, волшебное слово. Ходят истории, что в восемнадцать родители уже не отвечают за детей и можно переставать лыбиться. Но это может быть просто городской легендой. Единственное, что наверняка: если у тебя нет родителей, Они теряют свою власть, Они – беспомощны.
Когда до отбоя остаётся десять минут, из парка, как кровавые брызги из порванной глотки, вылетают Вольные.
Они двигаются быстро, уверенно. Как одичавшие псы, чуют слабость.
– Эй, Смешарики! Сегодня играете со взрослыми? – кричит старший из них, каланча под два метра с рассечённой от глаза до кончика губы щекой, отчего кажется, что изуродованная часть лица грустит, когда на здоровой – широкая полуулыбка. Он указывает на тело. – Чей батя?
Ребята тушуются, не переставая при этом улыбаться и смеяться. Кто-то тычет в сторону Серёги. В секунды Смешарики раскатываются в разные стороны. Серёга тоже мечтает исчезнуть отсюда, но он уже в тисках. Толчок в один бок, в другой, и вот он уже, задрав улыбающееся лицо, смотрит на шрамистого.
– Ну что, Смешарик? Смеёшься? Папка вздёрнулся, а тебе всё смехуёчки?
Серёга знает, как действуют Вольные. Он тысячу раз обсуждал это со своими родителями после отбоя, когда можно смыть холоднющей водой тупую улыбку и оттереть жёсткой мочалкой разводы от Их взглядов. Он сотни раз продумывал, как будет вести себя, как постарается не поддаться на издёвки Вольных. Но сейчас…
– А что, мамка ещё жива? Ждёт своего часа, да? Ждёт, пока сыночек перестанет лыбиться и отдаст мамку Им на съедение, да?
Серёга молчит, спрятавшись за своей широкой улыбкой с выступающими резцами. Он улыбается. До боли в губах. До крови.
– А-а-а, она, по ходу, ещё не знает про папку. Слушай, так, может, и не говорить? Зачем тревожить суку? Просто завязывай лыбиться, и дело с концом.
Серёга из последних сил тянет кончики губ вверх, но гравитация непобедима – усилия, чтобы рухнуть в пропасть, не требуется.
– Это всё равно произойдёт. Так происходит всегда. Это закон.
Гравитация побеждает. Улыбка оседает тающим снегом, лицо раскалывается плачем, по трещинам щёк бегут весенние ручьи.
Шрамистый отключает ухмылку, и лицо его становится симметрично грустным.
– Беги, пацан, попрощайся с матерью. Что делать потом, ты знаешь.
И Серёга бежит. Ему стыдно признаться даже самому себе, что визжащую изнутри пустоту заглушил еле слышный вздох облегчения.
***
Серёга всесилен. Эту силу дал ему отец, до сих пор висящий в парке. Дала мать, протянувшая несколько часов назад шланг в кабину отцовской «ГАЗели» и сумевшая запустить старую развалину. Человек, не имеющий ничего, всесилен. Гравитация уже не работает.
Серёга крутит в руке отцовский ПМ. Отец когда-то говорил, что хочет уйти с помощью пули. Но Они решили всё по-своему: синюшное от асфиксии лицо и моча по ногам. Что ж, теперь оружие у Серёги, и он сможет им воспользоваться в нужный момент.
Из-за полуразрушенной стены поликлиники выходит шрамистый. Теперь его лицо с обеих сторон выражает одну эмоцию. Сочувствие.
– Привет. Ты готов?
Серёга кивает. Да, он готов. Это было неизбежно. Мир, построенный Ими, не вращается вокруг оси. Он закручивается по спирали, а любая спираль конечна. Это путь саморазрушения. Путь самоубийства.
– Тогда идём.
Шрамистый улыбается, и на миг кажется, что улыбка трогает обе половины лица.
***
Таню раскручивают. Ей кажется, что от вращения у неё сейчас отвалится голова.
– Раз, два, три, четыре, пять,
Я иду искать!
Раздаётся смех. Куда же без смеха? Сегодня она, как и её друзья, будет веселиться за двоих. Всему виной вчерашний приход Вольных, которые смогли застать их врасплох и напугать.
Таня двигается, трогая воздух перед собой. Она надеется, что идёт в сторону турников – её не беспокоит, что она может расшибить лоб о перекладину. Лучше так, чем ткнуть пальцами в мёртвое лицо соседки тёти Зины, или споткнуться о мёртвую ногу дяди Вовы из «пятого» дома, или…
Ей не везёт, и она едва не взвизгивает, обжегшись кончиками пальцев о холодную плоть. Она ощупывает найденное лицо. Родинка на скуле, шероховатость аллергии на щеке, очертания подбородка – всё как обычно, кроме одного: сегодня мама не податливая, как поролон, а жёсткая, как пенопласт.
– Играешь в «жмурки» со жмуриками?
Таня резко оборачивается на голос. Срывает повязку с глаз. И старается держать улыбку на весу.
– Ну что, смешарик? Кто из них твой?
Вольный указывает на скамейки, на которых утром пятеро родителей отвечали за своих детей – пили пиво вприкуску с фенобарбиталом по Их приказу.
Таня хочет рвануть прочь, но она уже в кольце невесть откуда взявшихся Вольных.
– Думаю, вот эта!
Вольный подходит к таниной маме и рывком за волосы поднимает её голову. На секунду Тане кажется, что Вольный вот-вот заплачет, но тот берёт себя в руки и растягивает губы в неестественно весёлой улыбке. Два выступающих передних зуба делают его похожим на самого уродливого в мире кролика.
– Сдавайся, малая.
Таня держится. Она вчера предала маму и не хочет терять ещё и папу. Она будет улыбаться, даже если ей для этого придётся вырезать проклятущую улыбку у себя на лице.
– Это всё равно произойдёт.
Она прекрасно это знает.
– Так происходит всегда.
Она сможет продержаться.
– Это закон.