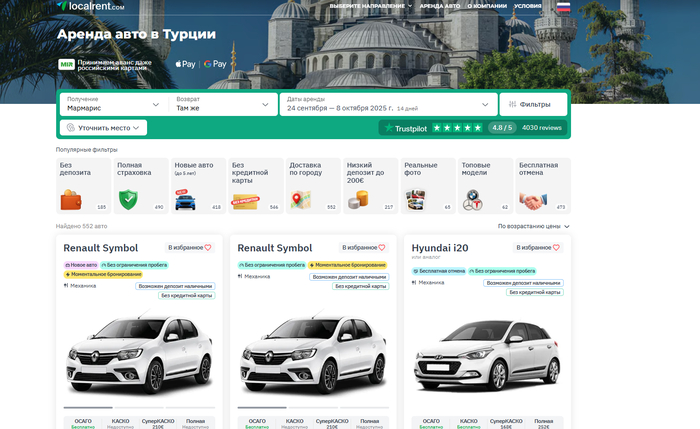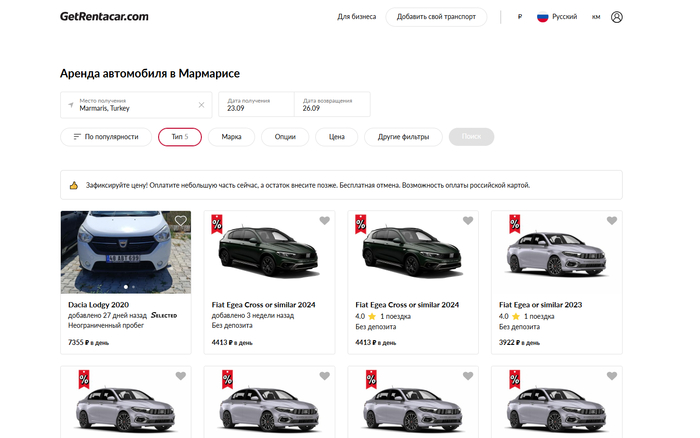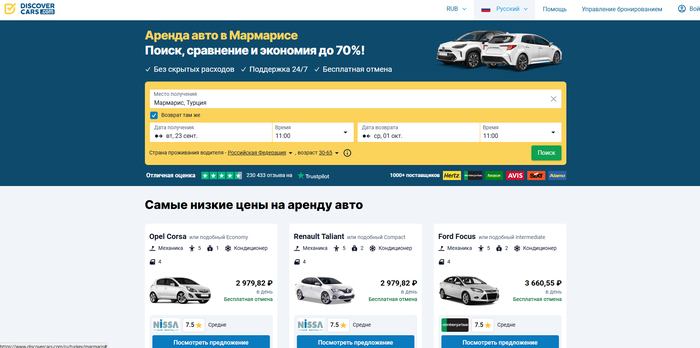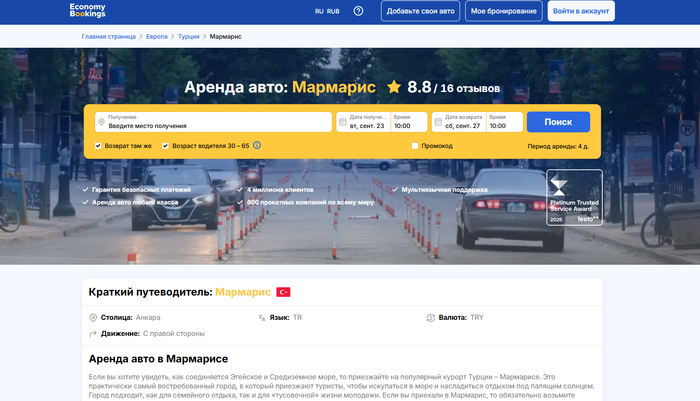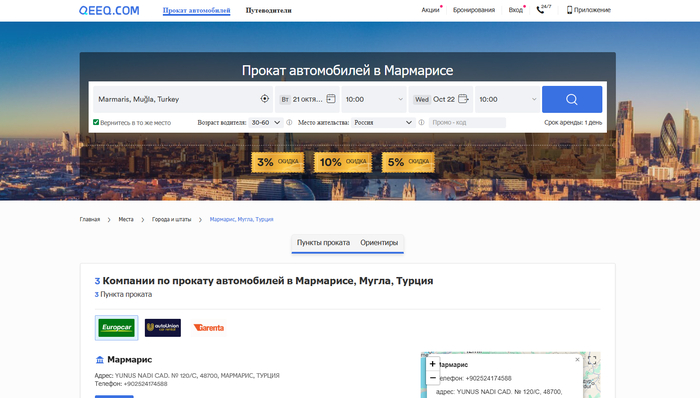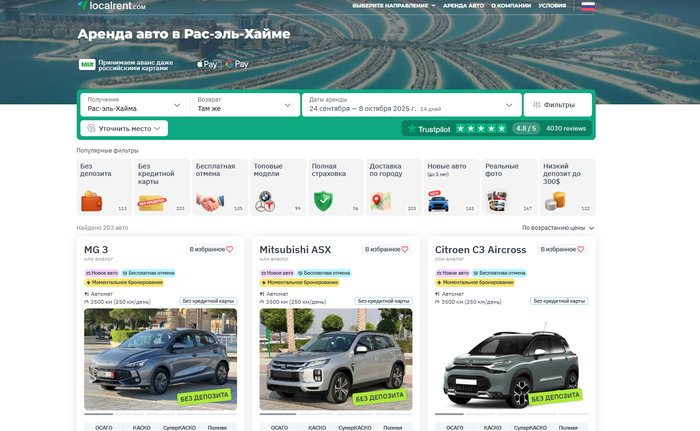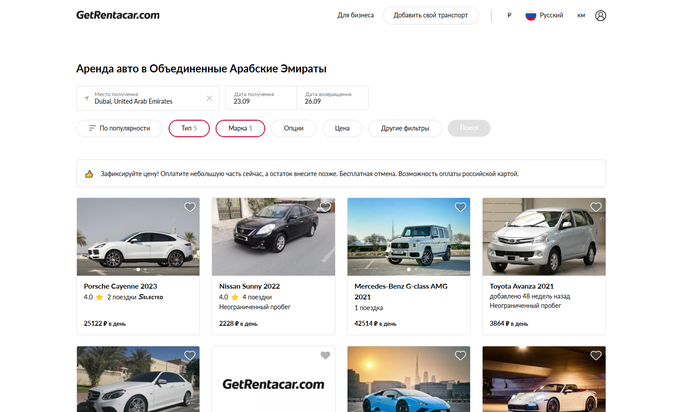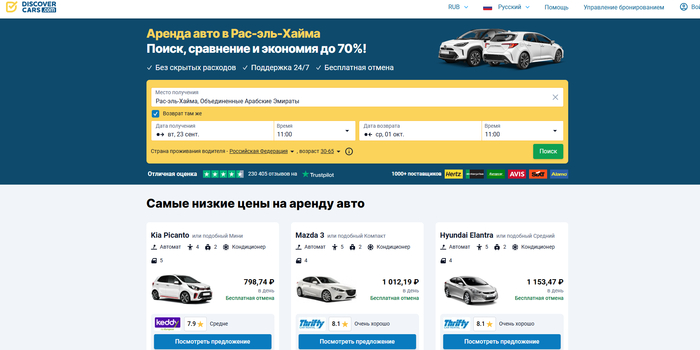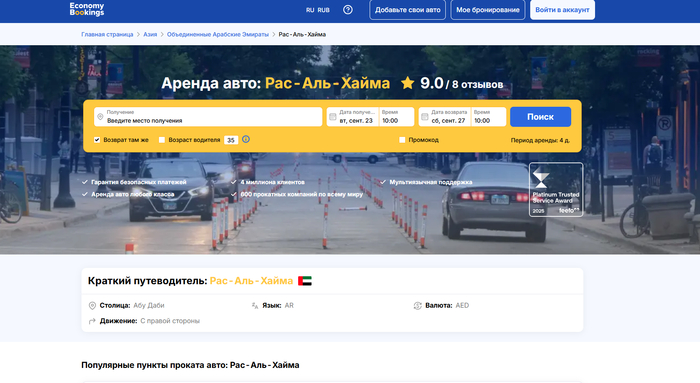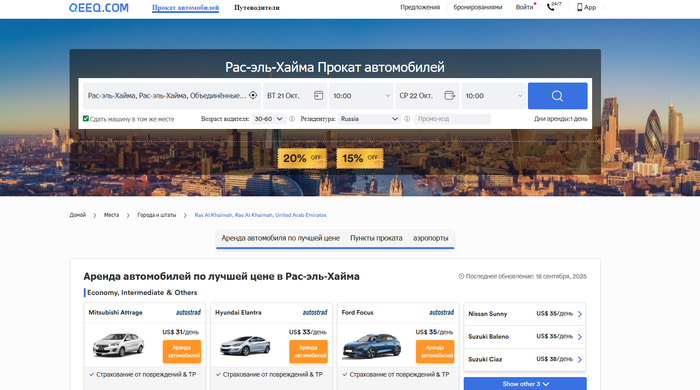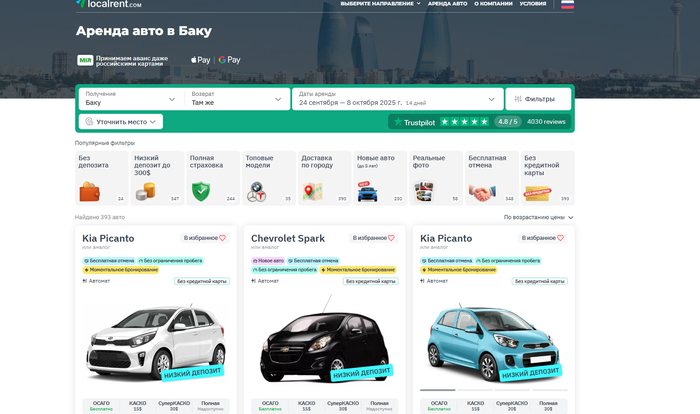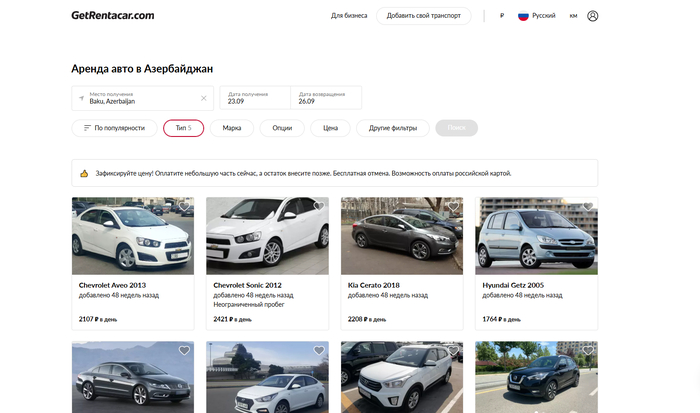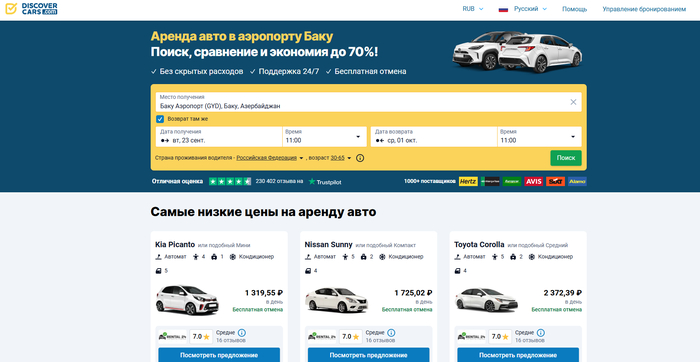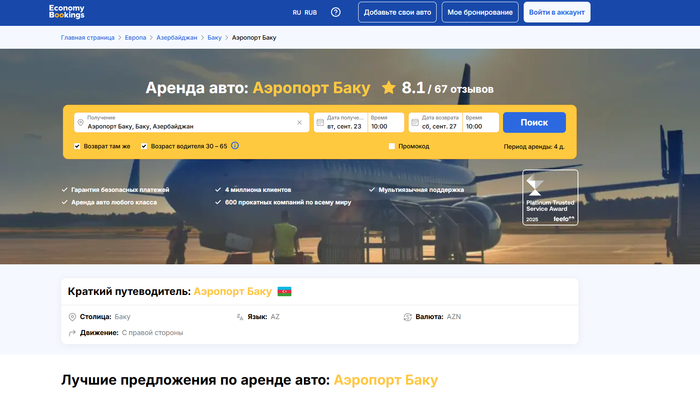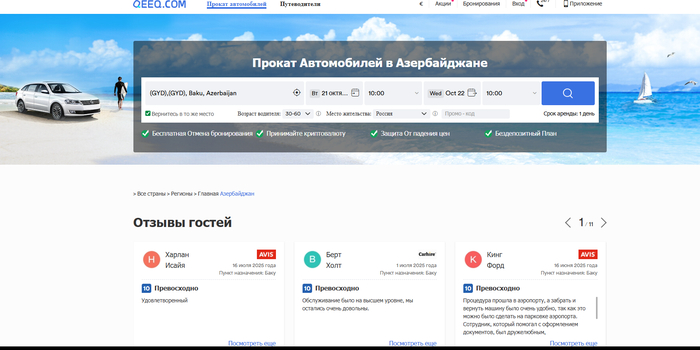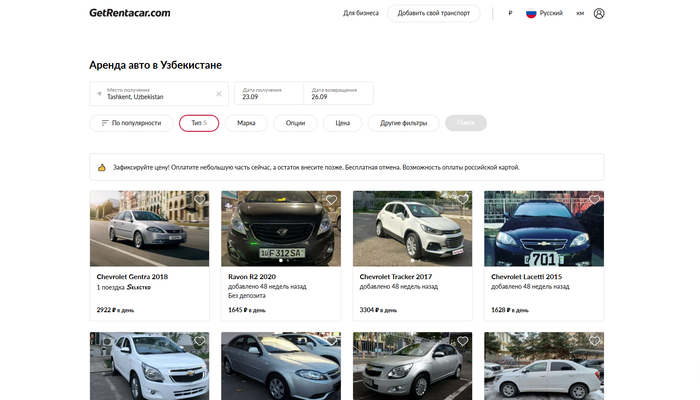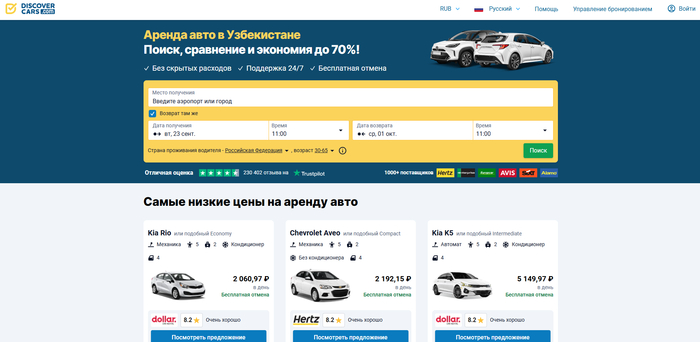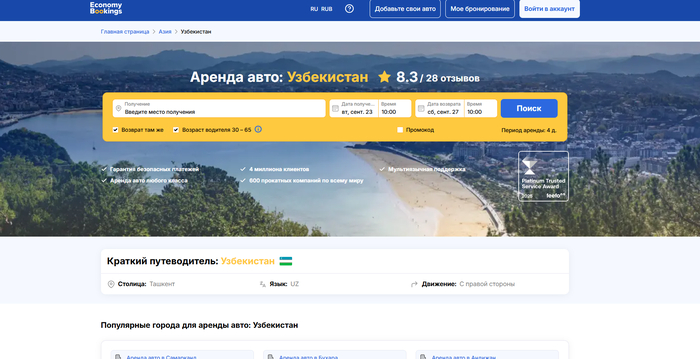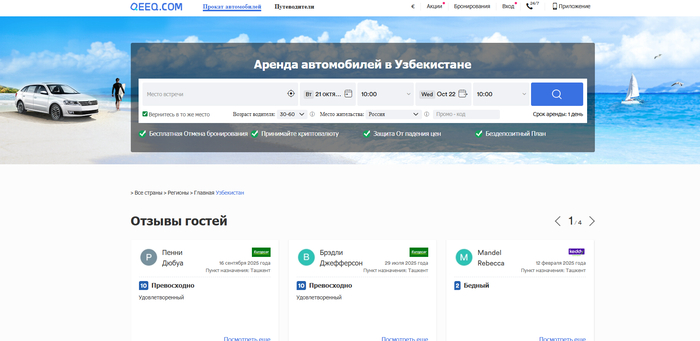Сестра
Бабушкин мизинец напоминал жухлый лист: бурый, мятый, хрупкий. И чистый при этом. Бугристый ноготь аккуратно сострижен, под ним никакой грязи, и даже морщины на тонкой коже уже не коричневые, а желтые.
Последний месяц, пока бабушка болела, мы с Миле просто глаз не могли отвести от ее мизинцев и запомнили их до мелочей. Так что не было никаких сомнений: мама очень тщательно его вымыла.
Мы с Миле сидели на стульях, сложив ладони на коленях. Миле ерзала и теребила оборки на юбке, я то и дело шикала на нее, но мама, к счастью, не замечала нашего нетерпения. Она продолжала стоять над столом и смотреть на тарелку с мизинцем.
Как и мы, она принарядилась: вместо серого комбинезона надела клетчатое коричневое платье. А еще распустила волосы, и они сосульками падали на ее худые плечи. Казалось, она не дышала. Лицо ее, застывшее хмурыми морщинами, ни разу не дрогнуло.
Бабушка рассказывала об одной ведьме, которая сгрызла мизинец, даже не отрезая, и мы с Миле раньше думали, что наша твердая, несгибаемая мама поступит так же. Она не раз попрекала бабушку, которая в свое время смалодушничала и приготовила рагу — а вдруг из-за этого какая-то часть пальца пропала, а значит, бабушке досталось меньше силы? И нам вместе с ней. Раньше мы тоже осуждали бабушкину слабость, но сейчас предпочли бы увидеть ссохшийся узловатый мизинец в наваристом супе, чем так.
Часы прищелкивали, отсчитывая время. В серое окно билась запоздалая муха, а за окном шумел лес. На кончике крана собиралась вода и раз в несколько минут глухо шлепалась в раковину.
Наконец Миле не сдержалась и зевнула — так, как умела только она: с подвыванием, широко раскрыв рот, словно ей не тринадцать, а три.
Мама подняла взгляд. Миле отпрянула и сжалась, я качнулась, словно прикрывая ее. Но мама так и не произнесла ни слова, а развернулась, открыла шкафчик с кастрюлями и достала блендер. Набрала в чашу воды, кинула туда мизинец, накрыла крышкой, установила блендер. Миле смотрела, раскрыв рот, и, кажется, до последнего не понимала, что происходит.
Мама нажала на кнопку. Блендер взвизгнул. Миле охнула. Я взяла ее за руку и держала, пока бабушкин мизинец с ревом превращался в коричневую жижу. Наконец мама откинула крышку и залпом выпила еще вращающуюся жидкость. Потом грохнула блендером о дно раковины и нависла над ней.
Кухню накрыла тишина.
Мы переглянулись: пора петь гимн?
Мама все еще молчала. А потом резко дернулась, и ее вырвало. Прямо в раковину. Прямо всем. И это было громче, чем блендер, перемалывающий бабушкину косточку.
— Прочь! — рявкнула мама, зажав рот.
Мы спрыгнули со стульев, стул Миле бахнулся за нашими спинами, мы пронеслись через гостиную и влетели в свою комнату, захлопнули дверь и долго стояли, прислонившись к ней и шумно дыша.
Миле дернула меня за рукав.
— Мама теперь умрет?
Мне хотелось крикнуть: «Конечно, умрет!», но глаза Миле блестели, и я ущипнула ее.
— Вот дурында! Вспомни, что бабушка рассказывала про такие случаи? — Миле нахмурилась, и я заговорила страшным шепотом: — Нужно просто съесть блевотину, в ней все равно осталась сила!
Миле неуверенно улыбнулась, а потом обняла меня. Я гладила ее по голове, а сама думала: только вот как съесть жидкость, которая утекла в слив?..
Впервые в жизни мне было жаль маму.
Заскрипели половицы, мы прыгнули на кровать и стали ждать. Шаркающие шаги остановились у двери. Провернулся ключ. Заныла и грохнула входная дверь. Мы метнулись к окну и увидели, как мама в черном дождевике быстро идет к лесу. Миле посмотрела на меня большими глазами.
— Мама куда?
— Тебе бы тоже хотелось побыть в тишине, если бы пришлось съесть свою блевотину, — пробормотала я, представляя, как сила нашего рода, не принятая внутрь, медленно рвет мамино тело снаружи, чтобы занять свое место.
Хорошо, что она ушла умирать в лес – Миле ни к чему слышать крики и видеть ее мучения. А заперла, чтобы мы за ней не пошли?
Миле шумно выдохнула и прошептала:
— А я думала, она к бабушке…
Я дала ей подзатыльник.
— Она же не такая дура, как ты. Зачем ей туда идти? Да и могильник в другой стороне!
Миле захныкала, и я обняла ее. Так мы и сидели до позднего вечера, пока она не засопела. Под утро мне привиделось, что дверь открылась и темный мамин силуэт застыл в проеме. В полудреме чудилось, что долго стоял.
Утром дверь оказалась не заперта, но вышли мы не сразу. Из дома тянуло холодом и доносились странные звуки, словно кто-то прыгает. Бабушка не раз рассказывала нам про несоблюдение ритуала, и мое воображение рисовало жуткие картинки с изувеченной мамой.
Потому я велела Миле ждать и пошла первой, намереваясь в одиночку отрезать для нее мизинец, а потом накрыть мамино тело пледом. Но гостиная оказалась пуста. Окна были нараспашку. Желтые шторы, подхваченные ветром, шлепали по стенам, полосатый плед аккуратно накрывал диван. Гостиная была не просто пустой, но и идеально чистой. Мама убрала все следы бабушки: все стаканы, таблетки, салфетки, ведро, горшок и тазик. Мама прибралась. Значит, она каким-то образом выжила. Вот только как?
Мимо меня на кухню прошаркала Миле, которой, конечно же, надоело ждать. Я вздохнула и пошла за ней.
Здесь мама тоже успела прибраться. Пахло хлоркой и свежим куриным бульоном. Все поверхности были чистыми, ко дну раковины прилип лавровый лист. На сушилке стояла кастрюлька и чашка от блендера. Точно — маму вырвало в нее, как я сразу не поняла!
И все же самой мамы нигде не было, и это тревожило.
Миле шумно втянула куриный аромат и заявила, что проголодалась. Я думала найти в холодильнике суп, но там оказалась только вчерашняя каша, застывшая коричневым комком, кетчуп и кусок сыра.
— Сходи в курятник, сделаем яичницу, – велела я.
— А ты?
— А я проверю гараж.
Двор раскис из-за моросящих дождей. Я прошлепала мимо сарая, свернула и остановилась возле тропки к могильнику. Лес здесь был гуще и чернее. А еще у него были глаза древних старух, и я ощущала, как их взгляды щупают меня. Никогда не любила это место.
В грязи на тропке остались наши размытые следы. Около куста шиповника, где Миле поскользнулась, и мы чудом удержали бабушкино тело, а мама дала Миле тяжелую пощечину, до сих пор осталась чуть более глубокая и резкая вмятина от широкого Милиного каблука. Я подняла от него взгляд и увидела, что на ветке куста болтается что-то черное. Кусок клеенки.
Пять метров до гаража я шла медленно и тяжело. Машины внутри не оказалось. Конечно, мама получила силу и поехала работать — бабушка настаивала, чтобы мы не потеряли ни одного клиента. Хотя нет, они же предупредили всех о том, что новой ведьме требуется время. Значит, мама поехала за едой, точно.
Чертов кусок клеенки не выходил из головы — так он был похож на клочок черного дождевика, в котором мама вчера ушла в лес. Но шла она в другую сторону. Или хотела, чтобы мы так думали?
И тут закричала Миле.
Я рванула с места и несколько раз упала в грязь, пока добежала до курятника. Миле стояла снаружи, изнутри доносились крики и кудахтанье птиц.
— Что случилось?
Миле так посмотрела на меня, что я поняла: там мама. Изувеченная и мертвая. Я оттолкнула ее и забежала внутрь. Птицы вопили и махали крыльями, в нос попал пух, и я чихнула. Мамы не было. В углу лежали тела куриц — три тушки в луже крови со свернутыми головами. Без ног. Рядом – окровавленный топор.
Я вышла злая.
— Идиотка, ты что, кур дохлых не видела?
— Они без ножек. И валяются, — пропищала Миле, и я сплюнула.
— Иди собирай яйца и в дом. Быстро!
Тяжелая сковородка шипела и плевалась маслом, запах яичницы перебил все остальные запахи, и куриным бульоном больше не пахло. Миле переминалась рядом и только не облизывалась.
— А почему мама нам холодца не оставила?
Я опустила руку с лопаткой, которой как раз подцепляла кусочек с самыми жидкими желтками для Миле.
— С чего ты взяла, что она готовила холодец?
— Так пахнет же. Да и зачем ей еще куриные ножки? — Миле пожала плечами.
Да, мама никогда не выбрасывала куриные ноги, а варила из них быстрый холодец. Мы его страшно любили.
«Он такой нежный, что можно косточки сгрызть и не заметить», — говорила бабушка.
— Ну, скорее, кушать хочу, — застонала Миле.
Я не чувствовала вкуса, а все думала и думала. Обрывок маминого дождевика на тропке к могильнику, отрубленные куриные ножки, холодец, в котором любые косточки становятся мягкими, несъеденный мизинец. А если ее все же вырвало в раковину, и то, что было пальцем, утекло в слив? Слишком страшная расплата ждет за это ведьму, слишком страшная смерть, от которой не спастись.
Вдруг мама в отчаянии решила рискнуть?
Я уронила ложку на стол.
— Мне надо в лес.
Миле разнылась, что еще не доела, потом разнылась, что не останется дома одна, потом разнылась, что я сошла с ума и к бабушке ни за что на свете нельзя. И в итоге все же увязалась за мной, все так же хныча, чем бесила еще сильнее.
Начался дождь. Все вокруг шкворчало и трещало, как яичница на сковороде. Пока шли до могильника, обе испачкались и промокли.
Тело бабушки лежало на алтаре посреди поляны, где мы его и оставили, — к счастью, вроде бы нетронутое. Лес безусловно заберет свое, но не хотелось видеть ее растерзанной. Миле вцепилась в меня. Ее зубы клацали, и я вырвалась.
— Стой здесь.
Струи дождя стали плотными и вспенивали землю под моими ногами. Наверное, поэтому так сложно было идти.
Прошел всего день, но бабушкино голое тело уже напоминало не студень, а неудачный пельмень. Такие лепила Миле — бесформенные, несуразные, в воде они всегда разваливались. Пельмень-бабушка лежал плотным белым комком, и мне стало смешно. Правая рука застыла между рыхлых грудей, как и велел ритуал, и была она четырехпалой: мизинец мама отрезала на наших глазах. Еще и гаркнула на Миле, которая зажмурилась и не хотела смотреть.
Я перевела взгляд на бабушкину левую руку, и перед глазами все дрогнуло — четыре скрюченных заскорузлых пальца. Без мизинца.
Рука между грудей шевельнулась, я отшатнулась и посмотрела в бабушкино лицо. Бурые вмятины на месте глаз заливал дождь, и в его ряби казалось, что пустые глазницы смотрят на меня. Я развернулась и побежала прочь, схватила Миле за руку, потянула за собой. Нас хлестало дождем и ветками, в ушах шумело, Миле запиналась, но я тянула — прочь, прочь, прочь от бабушки без двух мизинцев. От того, во что бабушка превратится.
Мы выпали из леса, и я сразу увидела машину около гаража. В доме было темно. Я затормозила, и рука Миле рыбкой выскользнула из моей. Вид дома придал ей сил, и она побежала быстрее.
— Миле, стой! Туда нельзя!
Но она уже свернула. Хлопнула дверь. Мне ничего не оставалось, как пойти за ней.
В темноте прихожей я отстраненно подумала, почему так темно, ведь еще день. А еще показалось, что внутри холоднее, чем в насквозь промокшем лесу. Я запнулась о мокрую куртку Миле, брошенную прямо посреди коридора. В сторону кухни шли мокрые следы.
— Миле?
Сначала я увидела маму — она сидела за столом с опущенной головой, и ее волосы шторкой опускались на лицо и касались столешницы. Потом я услышала Миле — она скулила у дальней стены, закрывая голову руками.
Я по дуге обошла маму, которая не шевелилась, и попыталась обнять Миле, но та с криком отползла в угол и замахала руками.
В спину дохнуло холодом.
— Зачем. Ты пошла. В лес.
Мама сидела в той же позе, и голос ее доносился словно из-под земли. Миле опустила руки, и я увидела, что губа слева разбита, а щека набухает краснотой.
— Отвечай, — прошипела мама.
— К бабушке, — выдавила Миле. — Мамочка, прости, я не хотела…
— А сама зачем туда ходила? — крикнула я. — Мы всё знаем! Ты отрезала еще один палец! Осквернила мертвую ведьму! Из-за тебя мы все прокляты!
Медленно мама подняла голову. Из-за волос ее лица не было видно, но я ощутила взгляд — он вморозил меня в пол. Это длилось и длилось. А потом она заговорила тихо и неожиданно печально:
— Я пыталась уйти, чтобы отвести ее гнев дальше от дома… Но духи не пустили. Прости. Иди к себе.
В спину нам донеслось:
— Дверь держи закрытой.
В темной гостиной мне померещился черный силуэт на диване и, запнувшись, я почти упала на Миле. Мы захлопнули дверь в комнату. Миле забилась под одеяло, а я распахнула шторы, пытаясь прогнать мрак. Грязно-белые струи дождя затянули окно. Мир снаружи рычал и стучал. Я думала о том, что дорогу окончательно размыло, и о том, что нам не выбраться, и о том, что надо бежать. Вой Миле мешал сосредоточиться.
— Да заткнись ты! Мама что, первый раз тебя бьет?
— Это б-была не м-мама… — прогундосила Миле.
Я толкнула ее, а потом залезла к ней под одеяло и обняла. Миле была мокрой, грязной и совершенно беспомощной. Мы застряли здесь.
Я ненавидела маму, которая из-за своей слабости убила не только себя, но и ее.
Мы с детства знали про ритуал. Про то, что ведьмы забирают только ту силу, что идет от предков — без нее нам гибель. И вся эта сила собирается в одном единственном ведьмином мизинце. Если забрать лишнее, мертвые ведьмы оголодают и придут мстить.
Наша мама была слабой, слабее меня, я всегда это чувствовала. И то, что ее вырвало во время ритуала, только доказывало это. Вся ее сила — мрачное лицо, злой голос. И то, что она била Миле. Мою маленькую, тупую, слабую Миле. И теперь, испугавшись, она попробовала забрать силу у мертвой бабушки, чем навлекла на нас беду.
Я не сомневалась, что Миле, если останется, умрет раньше нее — не справится с голодным бабушкиным духом. Но и сбежать сил ей не хватит. Разве что эту силу для нее добыть. Я думала об этом до вечера.
Миле успокоилась, потом ныла, что голодная, пока я не рявкнула — иди и ешь. Тогда она заткнулась и задремала. Ливень за окном гудел, в доме несколько раз скрипели половицы, иногда слышался топот, словно там бегает кто-то маленький. Зло вокруг становилось концентрированнее и гуще, но я чуяла, что до мамы оно еще не добралось. А значит, все может получиться.
Наконец дождь стих, и дом стих, и от этой внезапной тишины я проснулась. Пора. Я растолкала Миле, и та сонно хлопала глазами, пока я говорила ей, тщательно перемешивая ложь с правдой.
Мамы обречена. Она нарушила законы, забрала силу мертвой бабушки, а потому обречена. Ее не нужно жалеть. Нужно успеть забрать ее силу себе, чтобы спастись. Заткнись, если хочешь жить. Реветь будешь позже. Я сделаю все сама, а ты готовься к ритуалу.
Миле, конечно же, пошла за мной, и я испытала облегчение. Какой бы слабой и тупой она ни была, а без нее я теряла уверенность и храбрость.
Мы на цыпочках зашли в гостиную, полную мрачных теней. Мама лежала на диване, запрокинув голову, приоткрыв рот и постанывая во сне. Вокруг дивана был очерчен круг, мел валялся рядом. Так вот как она продержалась этот день. Несгибаемая мама.
Чернота в комнате задышала и пошла на нас.
— В круг, быстро!
Миле взлетела на краешек дивана и поджала ноги. Тень прошелестела по невидимой преграде и утробно зарычала.
— Закрой глаза и не бойся, — прошептала я.
Мама застонала громче. По лбу ее катился пот, но тело было холодным. Может, не трогать и дать умереть? Но я понимала, что сил во мне почти не осталось. Сколько я еще смогу защищать нас с Миле?
Я взяла подушку. Мама открыла глаза, и мои руки застыли. Кажется, впервые в жизни она посмотрела прямо на меня — спокойно и осознанно. И вдруг произошло немыслимое: мама улыбнулась. А потом прошептала:
— Дочка.
Я вздрогнула и почти уронила подушку ей на лицо, и надавила. Рядом взвыла Миле:
— Мамочка, мамочка, мамочка.
Я подумала, что если она сейчас попытается меня остановить, то я не смогу. Сдамся. Но Миле продолжала кричать, распахнув черные от страха глаза, и не шевелилась.
Впрочем, не шевелилась и мама. Я давила и давила на подушку, а под подушкой было тихо и бездвижно. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент Миле перестала причитать и спокойно сказала:
— Ты убила мамочку.
Я выпустила подушку из рук, отвалилась в сторону и закрыла глаза.
— Эта твоя мамочка всю жизнь тебя ненавидела.
Миле встала. Я дернулась:
— Куда ты?
— За ножом, — ответила Миле. — Нужно провести ритуал.
Она вышла из круга и исчезла во мраке кухни. Я в ужасе подумала, что все напрасно, сейчас голодный дух ее сожрет. Но Миле вернулась со всеми инструментами, села рядом с диваном, нежно взяла мамину руку в свою и положила ее на деревянную доску.
Она надрезала кожу, плоть — крови было удивительно мало, — перевернула нож острием вверх, положила мизинец сверху и ударила по нему молоточком. Палец отошел идеально ровно, словно она занималась этим всю жизнь. Точно так же она разделала его на несколько маленьких кусочков, потом снова ушла на кухню, вернулась со стаканом воды и один за другим проглотила их. Потом прокашлялась и запела гимн. Одна, потому что мое горло словно перетянуло жгутами.
Мама лежала с подушкой на лице. Дом был тих. Миле пела на забытом языке, и стены качались в такт ее песне.
Миле замолчала, опустилась на пол и заплакала. Не как обычно, без воя и нытья, а горько и печально. У меня сжалось сердце.
— Мы все правильно сделали. Теперь у тебя есть мамина сила, вместе мы справимся с бабушкой.
Миле всхлипнула:
— Нет, не справимся. Все стало только хуже. В маме не было родовой силы. Мы осквернили мертвую ведьму.
Я хотела стукнуть ее, чтобы не говорила глупостей, но в этот миг ощутила, как мамино тело под подушкой наливается черной тяжестью. Я отшатнулась и только теперь осознала свою ошибку: в том, другом, мизинце, который мама забрала у бабушки, не было чистой силы. Значит, она тоже станет голодной ведьмой.
Я застонала, а потом подползла к Миле, взяла ее руки в свои и заговорила жарко:
— Я спасу тебя, я сильная. Сильнее мамы. И сильнее бабушки! Я придумаю что-нибудь, обещаю. Ты не одна.
— Одна! — крикнула Миле и вырвала свои руки из моих. — У меня умерла бабушка. И мама умерла. И ты тоже мертвая.
— Вот дура… Что ты говоришь….
— Я просто об этом никогда не думала. Я раньше вообще мало о чем думала. А теперь знаю.
— Врешь!
— Как тогда тебя зовут?
— А как тогда я могу делать это? — И я с силой ударила ее в живот.
Она согнулась, спрятала лицо в ладонях и затряслась. А я привалилась к дивану и закрыла глаза.
Я мертвая?
Я мертвая. Конечно. И живой почти не была.
Я вспомнила время в темноте, спокойствии и силе. Рядом была сестра, она была слабой и умирала. Я знала, что она должна умереть, это правильно, но не хотела этого и хранила ее жизнь, пока мы не появились на свет.
Вспомнила холод на коже и ужас двух женщин: у ведьм не бывает двойни. Всегда рождается только одна дочь, иначе быть беде.
Вспомнила, как бабушка — черноглазая, с длинной косой и злыми бровями, похожая скорее на маму сейчас, а не на себя в последние годы, — долго смотрела меня, а потом кивнула: она лишняя.
Вспомнила мамино окаменевшее лицо.
Вспомнила, как меня взяли за ножки и ударили головой об угол, чтобы душа точно покинула тело. И я покинула через трещину в черепе.
Вспомнила, как мое тело отнесли на могильник и сразу закопали под кустом, как нечто грязное и ненужное.
Я думала отомстить женщинам, но видела только слабую сестру, которая вмиг осиротела и стала еще слабее. Я обняла ее и осталась.
Я обняла Миле, и она, как всегда, почувствовала меня.
— Знаю, как тебя спасти, — тихо сказала я ей. — Знаю, где взять силу, которая легко справится со всеми голодными духами.
Она посмотрела на меня — опухшая, красная, смешная. Интересно, а какой она видит меня?
— Ты веришь мне?
Миле кивнула. Моя Миле верила мне всегда, и я ее не подведу. Даже мертвая, я сильнее их.
— Главное, не выпускай мою руку. Пошли.
Дом еле заметно пульсировал, шаги наши продавливали стонущие половицы. Стены шептали, двери стали тяжелыми, черные тени по углам скалились сотней клыков. Я повторяла: «Иди, иди, иди», и Миле шла по коридору, который тянулся длинным туннелем. Наконец мы вынырнули наружу в размытый ливнем двор и шумно втянули мокрый воздух. На Миле были тонкие штаны и рубашка, на босых ногах — калоши. Но времени одеваться не было.
Я потянула ее к сараю, а потом за него. Около тропки Миле заупрямилась, и я потащила ее силой. Темный лес прыгал перед глазами, я задыхалась, сражаясь с упирающейся Миле и с тьмой, что обступала со всех сторон и капала из низких туч.
— Вперед, не останавливайся! — повторяла я и тянула ее дальше, все чаще оскальзываясь и запинаясь.
Миле хрипела, но шла — неуклюже и медленно. Иногда ее рука дергалась и выворачивалась, а сама Миле начинала пронзительно визжать или смеяться. Тогда я трясла ее и кричала, пока морок не уходил, но с каждым разом получалось все хуже.
Вдали брезжил просвет между елями, поляна близко, но сил во мне не осталось. Я подняла ладонь, чтобы отодвинуть ветку, и поняла, что могу видеть сквозь себя. Все, что было мной, разлетелось по дороге ошметками силы. Я уже не могла держать Миле. Нам не дойти.
— Миле, попробуй добраться до могильника сама. У куста, где ведьмины круги, прямо в корнях, косточки… Среди них мой мизинец. Ты должна найти его и проглотить. Боже, как же ты его найдешь сама…
— Ты мне покажешь.
Я поняла, что это она придерживает меня и ведет вперед. Она шаталась и то и дело взмахивала руками и огрызалась на кого-то, и я видела черные тени, что оседали на ее теле, пытаясь пробраться внутрь. Но Миле шла и тянула меня, а потом взяла на руки и понесла. Она была очень холодной и сипела, но не останавливалась ни на миг. Я прижималась к груди сестры и удивлялась, сколько в ней стойкости и отваги.
На могильнике нас ждала бабушка, похожая теперь на бурое дрожжевое тесто. У нее не было губ, но я знала, что этот ощерившийся рот и правда улыбается.
— Внучка, — проскрипела она.
У Миле подкосились колени, и она едва не упала. Я чувствовала ее страх и горе — она всегда любила бабушку.
— Пришла. Хорошая девочка.
Бабушка шагнула к нам. Миле шагнула к ней. У нее не осталось сил бороться. Я выскользнула из рук Миле и загородила ее. Бабушка застыла.
— О, так вот в чем дело. Хорошо, что тогда убила тебя. Твоя сила неправильная, такой не должно быть.
— Куст, — шепнула я и Миле двинулась в сторону опушки.
Бабушкина голова поворачивалась вслед за ней, но сама она не шевелилась. Вдруг за нашей спиной раздался хохот. Мама! Она двигалась вприпрыжку, наклонив голову к левому плечу и растянув неестественно длинный рот в улыбке. Совсем свежий голодный дух, безумный в своей смерти.
Я развернулась к ней и выставила руки, зная, что уже проиграла эту битву. Но вдруг то, что было бабушкой, с рыком метнулось вперед.
Я подползла к Миле, пока голодные духи сражались. Она скрючилась около куста и тихонько выла.
— Скорее, — прошептала я, — рой здесь.
Мои косточки звали, и я надеялась, что узнаю среди них мизинцы. Должна узнать.
Миле стала царапать землю. Слишком слабо и медленно. Какая я дура — нужно было взять лопату.
— Лопата бы не спасла, — прошипело за спиной. Вокруг бабушки клубилась и извивалась чернота. — На том теле нет мизинцев. Ни одного. Младенцы не могут превратиться в голодных духов, даже если забрать все. А я все и забрала, и это справедливо, тебе все равно ни к чему. И кстати, твои мизинцы я проглотила без рагу.
— Вот только силы это тебе не дало, — протянула я.
Забытая боль и обида поднимались медленно и густо. В глазах темнело. Я запрокинула голову и закричала на одной высокой нескончаемой ноте, и с каждым мгновением мой крик набирал мощь и накрывал поляну куполом. Я ощущала, как пытается отползти Миле, как пятится бабушка, как скулит мама. Я ощущала свои звонкие светлые косточки под толщей земли, дырку в черепе, зуд там, где не хватало пальцев. Меня заполняла ненависть. И сила.
Младенцы не становятся голодными духами? А я тогда кто? Ты ошиблась, бабушка, и твоя ошибка дорого тебе обойдется.
Я замолчала, но лес вокруг звенел и вибрировал. На месте бабушки и мамы остались темные пятна. Миле лежала, зажав уши и широко распахнув глаза.
Я подошла к ней, присела рядом и обняла, как делала все эти годы. Моя маленькая, слабая, глупая Миле. Я оказалась очень голодным духом — голодным до любви. Но я не уничтожу тебя, сестра. Я осталась здесь ради тебя и буду с тобой всегда.
Древние традиции рухнут, все изменится, и лишь странная Миле будет идти по тропе из черного леса к черному дому. Из черных туч над ее головой срываются первые снежинки. Миле раздета, но ей не холодно, она улыбается. Сейчас она сожжет дом и покинет это место навсегда. Бабушка никогда не рассказывала ей таких историй, но она расскажет ее сама. Правда?
Две прозрачные тени, идущие вслед за ней с опущенными головами, кивают.
Пальцы Миле светятся, но с каждым шагом все тусклее и тусклее.