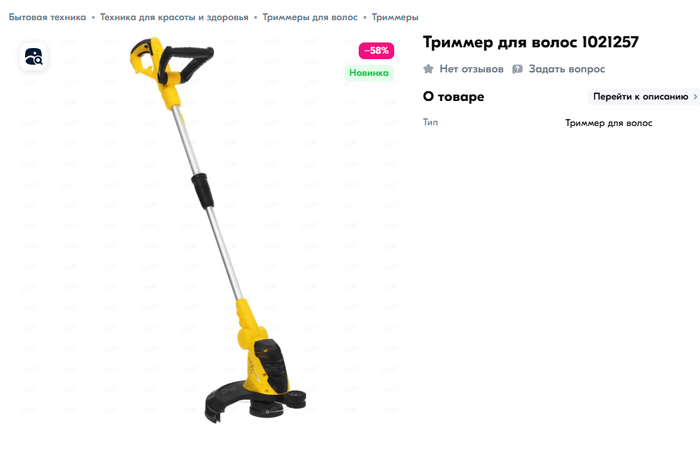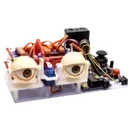Два лица Тэффи
Знаменитая писательница Надежда Александровна Тэффи говорила о себе так: «Я родилась в Петербурге весной, а, как известно, наша петербургская весна весьма переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее». Это действительно так: все произведения Тэффи с одной стороны смешные, а с другой — весьма трагичны…
Семья поэтов:
Надежда Александровна родилась в апреле 1872 года. Отец ее, А.В. Лохвицкий был весьма известным человеком — профессор криминалистики, обеспеченный человек. Многочисленная семья Лохвицких отличалась разнообразными талантами, основным из которых был литературный. Писали все дети, особенно увлекаясь стихами.
Сама Тэффи сказала про это так: «Занятие это считалось у нас почему-то очень постыдным, и чуть кто поймает брата или сестру с карандашом, тетрадкой и вдохновенным лицом — немедленно начинает кричать: «Пишет! Пишет!» Пойманный оправдывается, а уличители издеваются над ним и скачут вокруг него на одной ножке: «Пишет! Пишет! Писатель!»
Вне подозрений был только самый старший брат, существо, полное мрачной иронии. Но однажды, когда после летних каникул он уехал в лицей, в комнате его были найдены обрывки бумаг с какими-то поэтическими возгласами и несколько раз повторенной строчкой: «О, Мирра, бледная луна!» Увы! И он писал стихи! Открытие это произвело на нас сильное впечатление, и как знать, может быть, старшая сестра моя, Маша, став известной поэтессой, взяла себе псевдоним Мирра Лохвицкая именно благодаря этому впечатлению».
Поэтесса Мирра Лохвицкая была очень популярна в России на рубеже веков. Именно она ввела младшую сестру в литературный мир, познакомив ее с многими известными писателями.
Надежда Лохвицкая тоже начинала со стихов. Первое ее стихотворение было напечатано уже в 1901 году, пока еще под настоящей фамилией. Затем появляются пьесы и загадочный псевдоним Тэффи.
Сама Надежда Александровна рассказывала про его происхождение так: «Я написала одноактную пьеску, а как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но никогда и не прочтут. Вот тут я и призадумалась. Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, ни то ни се. Но что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливы.
За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Но уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный, и вдобавок такой, которому везло. Звали его Степан, а домашние называли его Стеффи. Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнавался), я решила подписать пьеску свою «Тэффи» и послала ее прямо в дирекцию Суворинского театра»…
Тошнота от славы:
И вскоре имя Тэффи становится одним из самых популярных в России. Ее рассказами, пьесами, фельетонами зачитывается, без преувеличения, вся страна. Поклонником молодой и талантливой писательницы становится даже русский император.
Когда к 300-летию дома Романовых составляли юбилейный сборник, Николая II спросили, кого бы из русских писателей он хотел в нем увидеть, то он решительно ответил: «Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!»
Интересно, что даже при наличии столь могущественного поклонника Тэффи совершенно не страдала «звездной болезнью», была ироничной не только по отношению к своим персонажам, но и к себе. По этому поводу, Тэффи, в свойственной ей шутливой манере, рассказывала: «Я почувствовала себя всероссийской знаменитостью в тот день, когда посыльный принес мне большую коробку, перевязанную красной шелковой лентой. Я развязала ленту и ахнула. Она была полна конфетами, завернутыми в пестрые бумажки. И на этих бумажках был мой портрет в красках и подпись: «Тэффи»!
Я тут же бросилась к телефону и хвастаться своим друзьям, приглашая их попробовать конфеты «Тэффи». Я звонила и звонила по телефону, созывая гостей, в порыве гордости уписывая конфеты. Я опомнилась, только когда опустошила почти всю трехфунтовую коробку. И тут меня замутило. Я объелась своей славой до тошноты и сразу узнала обратную сторону ее медали».
Самый веселый журнал в России:
Тэффи вообще, в отличие от многих юмористов, и в жизни была веселым, открытым, неунывающим человеком. Так же, как и Аркадий Аверченко — остроумнейший человек как в жизни, так и в своих произведениях. Естественно, что вскоре у Аверченко и Тэффи начинаются тесная дружба и плодотворное сотрудничество.
Аверченко был главным редактором и создателем знаменитейшего «Сатирикона», с которым имели дело самые известные люди того времени. Иллюстрации рисовали художники Ре-ми, Радаков, Юнгер, Бенуа, своими стихами радовали Саша Черный, С. Городецкий, О. Мандельштам и Маяковский, помещали свои произведения А. Куприн, Л. Андреев, А. Толстой, А. Грин. Тэффи в окружении таких блестящих имен остается звездой — ее рассказы, очень веселые, но с оттенком грусти, всегда находят горячий отклик у читателей.
Тэффи, Аверченко и Осип Дымов написали замечательную, удивительно смешную книгу «Всемирная история, обработанная «Сатириконом», проиллюстрированную Реми и Радаковым. Написана она была как пародия на учебники, и все исторические события переворачивались в ней с ног на голову. Вот отрывок из главы про Древнюю Грецию, написанной Тэффи: «Лакония составляла юго-восточную часть Пелопоннеса и получила свое название от манеры тамошних жителей выражаться лаконически». Современных читателей поражают в этой книге даже не столь сам юмор, а уровень образования и обширные знания авторов — так можно шутить только над тем, что очень хорошо знаешь…
Ностальгия
Про события, связанные с революцией, Тэффи рассказала в своей книге «Воспоминания». Это очень страшное произведение, несмотря на то, что Тэффи старается держаться и смотреть на самые чудовищные вещи с юмором. Невозможно читать эту книгу без содрогания…
Вот, например, эпизод встречи с комиссаршей про кличке Зверь, которая прославилась своей жестокостью при расправах с «чуждыми элементами». При взгляде на нее Тэффи с ужасом узнает бабу-посудомойку из деревни, где Тэффи снимала дачу.
Эта особа всегда сама вызывалась помочь повару, когда нужно было резать цыплят: «Скучна безобразной скукой была твоя жизнь. Никуда бы не ушагала ты на своих коротких ногах. И вот какой роскошный пир приготовила тебе судьба! Напилась ты терпкого, теплого, человеческого вина досыта, допьяна. Залила свое сладострастие, больное, черное. И не из-за угла, тайно, похотливо и робко, а во все горло, во все свое безумие. Те, товарищи твои в кожаных куртках, с револьверами, — простые убийцы-грабители, чернь преступления. Ты им презрительно бросила подачки — шубы, кольца, деньги. Они, может быть, и слушаются, и уважают тебя именно за это бескорыстие, за «идейность». Но я-то знаю, что за все сокровища мира не уступишь ты им свою черную, свою «черную» работу. Ее ты оставила себе»…
Бежав в ужасе из Советской России, Тэффи оказывается в Париже. Здесь она быстро становится такой же популярной, как на родине. Ее фразы, шуточки, остроты повторяют все русские эмигранты. Но чувствуется в них тяжелая грусть, ностальгия: «Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: «Живем худо, как собаки на Сене»».
Или знаменитая фраза про русского генерала-беженца из рассказа «Ке фер?» (Что делать?). «Выйдя на Плас де ла Конкорд, он посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством:
— Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот… ке фер? Фер-то ке?» Но перед самой Тэффи извечный русский вопрос: что делать? — не стоял. Она продолжала работать, фельетоны и рассказы Тэффи постоянно печатались в парижских изданиях.
Во время оккупации Парижа гитлеровскими войсками Тэффи не смогла уехать из города из-за болезни. Ей пришлось пережить муки холода, голода, безденежья. Но при этом она всегда старалась сохранить мужество, не отягощая друзей своими проблемами, наоборот, помогая им своим участием, добрым словом.
А друзей вокруг становилось все меньше и меньше — один за другим умирали наши великие соотечественники, вынужденные проводить свои лучшие годы на чужбине. Ходасевич, Мережковский, Бальмонт, Гиппиус…
Тэффи остаются только воспоминания, и она старается поделиться ими с окружающими, успеть донести до читателей уходящую эпоху. Она пишет воспоминания о 3. Гиппиус, А. Куприне, Ф. Сологубе, Вс. Мейерхольде, Г. Чулкове…
В октябре 1952 года Надежда Александровна была похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем. Проводить ее в последний путь пришло очень мало народу — почти все ее друзья к тому времени уже скончались…
«Золотая серия» библиотечки газеты «Тайны XX века», «Судьбы великих», 2011г.
КРАСНОПЁРОВ СЕРГЕЙ-НУРМАМАД: КОГДА ПРЕДАТЕЛЬСТВО СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ1
С содроганием и омерзением пролетарское сознание воспринимает новость: в Россию, на землю (хотя уже и в совсем другое государство), которую он предал, вернулся Сергей Юрьевич Краснопёров, отныне именующий себя Нурмамадом. Вернулся не с покаянием, не для искупления чудовищной вины перед народом и павшими товарищами, а с высокомерным осуждением тех, кого его новые «братья по вере» и он сам когда-то обрекали на смерть. Сорок лет этот перевёртыш, дезертир и пособник душманов, поливавших свинцом советских парней, отсиживался в афганских горах. Теперь же, когда бури истории улеглись, когда знамя великой Советской державы спущено оппортунистами и реставраторами капитализма, он счёл возможным явиться.
Давайте называть вещи своими именами. Краснопёров – не заблудшая овца, не жертва обстоятельств. Это банальный уголовник, который, по его же собственному признанию, спасал свою шкуру от тюрьмы за расхищение армейского имущества. Вместо того чтобы понести заслуженное наказание, он выбрал путь предательства – перебежал к врагу. И не просто перебежал, а активно включился в вооружённую борьбу против своих вчерашних сослуживцев. «Чинил пулемёты, ремонтировал орудия. Мы метко стреляли по вертолётам». Каждое это слово – плевок в лицо матерям, не дождавшимся своих сыновей из Афганистана, в лицо тем, кто получил там ранения, кто до сих пор несёт в себе боль той необъявленной войны. Он стрелял в тех, кто выполнял свой интернациональный долг, каким бы спорным он ни казался сегодня из уютных кресел диванных аналитиков. Он стрелял в тех, кто был связан с ним присягой и общим делом.
И вот этот иуда, сменивший имя и веру как перчатки, теперь брезгливо морщится, глядя на российских женщин. Ему, видите ли, «противно», что они не живут по шариату. Какое циничное лицемерие! Человек, чьи руки по локоть в крови советских солдат, чья жизнь – сплошное предательство и приспособленчество, смеет рассуждать о морали и нравственности! Его новое имя Нурмамад не смыло с него клейма дезертира и пособника убийц. Его шесть детей, рождённых от «местной мусульманки», не делают его преступления менее тяжкими.
Но самый главный, самый страшный вопрос – не к этому ничтожеству. Вопрос к тем, кто сегодня определяет политику в Российской Федерации, образовании, считающем себя правопреемником СССР. Как стало возможным, что человек, открыто признающийся в вооружённой борьбе против советских военнослужащих, спокойно возвращается в страну? Где же хвалёная «защита национальных интересов», где «патриотизм», о котором так любят вещать с высоких трибун? Или память о павших в Афганистане уже не вписывается в новую конъюнктуру, где бывшие враги становятся «партнёрами», а террористические организации вдруг перестают быть таковыми по щелчку политических пальцев?
Косвенно, но ядовито, просачивается мысль: а не потому ли вернулся Краснопёров-Нурмамад, что почувствовал себя здесь… комфортно? Не потому ли, что увидел – почва готова? Когда предательство Родины и убийство её защитников перестают быть абсолютным злом, когда границы морали размываются в угоду сиюминутным политическим или экономическим выгодам, когда общество атомизировано и лишено классового чутья, тогда и появляются такие «возвращенцы». Они чуют: их время пришло. Время, когда можно безнаказанно глумиться над памятью героев и навязывать свои, чуждые трудовому народу, архаичные порядки.
Это не просто возвращение одного предателя. Это – тревожный симптом. Это показатель того, насколько далеко зашла деградация общественного сознания, отравленного ядом буржуазного индивидуализма и оппортунизма. Позволить такому человеку спокойно ходить по земле, которую он предал – значит расписаться в собственном беспамятстве и моральном банкротстве. Истинные социалисты, наследники великих революционных традиций, никогда не смирятся с подобным глумлением над исторической правдой и памятью павших борцов. Предатель должен знать: его преступлению нет и не будет прощения. И место ему – не на улицах российских-советских городов, а на скамье подсудимых. Если не юридической, то, по крайней мере, на суде народной совести.
Кольцо мастера на все руки
Интересное регулируемое под нужный размер кольцо в виде согнутого гаечного ключа. Стоит такое около 100 руб. Ссылка на неё
Ответ на пост «Здравствуй кризис 40 или бес в ребро»30
Джеффри Тейтум
Джеффри Тейтум садится в машину ночью, в баре виски предусмотрительно накатив.
Чувство вины разрывает беднягу в клочья: эта девочка бьется в нем, как дрянной мотив.
"Завести машину и запереться; поливальный шланг прикрутить к выхлопной трубе,
Протащить в салон. Я не знаю другого средства, чтоб не думать о ней, о смерти и о тебе".
Джеффри нет, не слабохарактерная бабенка, чтоб найти себе горе и захлебнуться в нем.
Просто у него есть жена, она ждет от него ребенка, целовал в живот их перед уходом сегодня днем.
А теперь эта девочка - сработанная так тонко, что вот хоть гори оно все огнем.
Его даже потряхивает легонько - так, что он тянется за ремнем.
"Бэйби-бэйб, что мне делать с тобой такой, скольких ты еще приводила в дом, скольких стоила горьких слез им.
Просто чувствовать сладкий ужас и непокой, приезжать к себе, забываться сном, лихорадочным и белесым,
Просто думать ты - первой, я - следующей строкой, просто об одном, льнуть асфальтом мокрым к твоим колесам,
Испариться, течь за тобой рекой, золотистым прозрачным дном, перекатом, плесом,
Задевать тебя в баре случайной курткой или рукой, ты бы не подавала виду ведь.
Видишь, у меня слова уже хлещут носом - Так, что приходится голову запрокидывать".
"Бэйби-бэйб, по чьему ты создана чертежу, где ученый взял столько красоты, где живет этот паразит?
Объясни мне, ну почему я с ума схожу, если есть в мире свет - то ты, если праздник - то твой визит?
Бэйби-бэйб, я сейчас приеду и все скажу, - я ей все скажу - и она мне не возразит".
Джеффри Тейтум паркуется во дворе, ищет в куртке свои ключи и отыскивает - не те;
Он вернулся домой в глубокой уже ночи, он наощупь передвигается в темноте,
Входит в спальню и видит тапки - понятно чьи; Джейни крепко спит, держит руку на животе.
Джеффри Тейтум думает - получи, и бредет на кухню, и видит там свою порцию ужина на плите.
Джеффри думает: "Бэйб, дай пройти еще октябрю или ноябрю.
Вон она родит - я с ней непременно поговорю.
Я тебе клянусь, что поговорю".
Джеффри курит и курит в кухне, стоит и щурится на зарю.
(C) Вера Полозкова