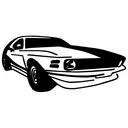Недрасосы
Я видел их. У Большой Течи, где земля сочится жиром и потом, у самого алтаря, где стальная кишка уходит в вечность. Они стояли там, эти призраки в костюмах из панцирей дохлых моллюсков, и припадали к кранам, словно младенцы к иссохшей материнской груди. Их лица — восковые маски, оплывшие от вечного, тусклого экстаза, а в глазах — ничего, кроме отражения вязкой, радужной жижи. Пустота, залитая нефтью.
Это они — Недрасосы. Новое жречество. Каста неприкасаемых, прикоснувшихся к главному — к артерии, пронзающей этот проклятый шар из грязи и отчаяния. Они не качают ресурс, нет. Они совершают литургию. Каждый поворот вентиля — священнодействие. Каждый баррель — частица Тела Планеты, каждая тонна газа — ее предсмертный выдох. А они вдыхают его, суки, и становятся богами. Богами стабильности.
Какая ахуенная, какая всеобъемлющая ложь! Стабильность. Они бормочут это слово, как безумный шаман бормочет имя своего демона. Стабильность их счетов в банках, которые существуют только в виде электрических импульсов в холодных, равнодушных машинах. Стабильность их вилл, построенных на костях тех, кто не вписался в их молебен. Стабильность их потомства — бледных, анемичных созданий с глазами старых ростовщиков, которые с пеленок учатся отличать сорта этой черной крови по вязкости и запаху серы.
Их мир — это не наш мир. Это лабиринт из трубопроводов, где реальность — лишь побочный продукт перегонки. Они не ходят по земле, они скользят по графикам фьючерсов. Они не дышат воздухом, они фильтруют новостные сводки. Их психология — это психология паразита, который убедил носителя, что он, паразит, и есть его мозг, его сердце и его смысл существования. А носитель — эта огромная, истерзанная страна — верит. Почесывается, чувствуя зуд там, где они впились, и думает, что это божественное помазание.
Я был на одном из их пиров. В зале, где потолок был точной картой звездного неба — но не того, что над нами, а того, что отражается в нефтяной луже. Они не ели. Они втирали в десны концентрированную эссенцию, экстракт чистой Власти. Их разговоры — шипение спускаемого пара. Они обсуждали не людей, не судьбы, не идеи. Они обсуждали закупорки, давление в системе, процент примесей. Для них вся цивилизация, вся история, все Бетховены и Достоевские — лишь досадные примеси в священной жиже, которые нужно отфильтровать.
Их главный страх — не революция, не гнев народный. Хуйня это все. Их главный страх — это икота. Икота планеты. Внезапный спазм, который пережмет Трубу. Поэтому они молятся. Их молитва — это пропаганда, льющаяся из каждого утюга. Их иконы — это улыбчивые ублюдки на экранах, объясняющие пастве, что терпеть — это и есть высшая форма благодати. А паства слушает. Паства причащается разбавленной, суррогатной кровью — кредитами, ипотеками, дешевым пивом и бесконечным сериалом про ментов и бандитов, где все всегда возвращается на круги своя. Вечная, блядская стабильность.
Но я видел трещину. Не в Трубе. В их лицах. Когда гаснет свет софитов и они остаются одни в своих золотых клетках, на восковых масках проступает первобытный ужас. Ужас наркомана перед концом дозы. Они знают, что Труба — не бесконечна. Они чувствуют, как в глубине, в самом сердце раскаленного ядра, что-то меняется. Пульс планеты становится реже. И однажды она не выдохнет. Она просто сдохнет.
И в этой оглушительной тишине, в мире, где кончилась черная кровь, они останутся никем. Просто жалкими стариками в нелепых костюмах, с пустыми глазами, в которых больше нечему отражаться. Они превратятся в пыль, в сноску в учебнике истории, написанном на языке, которого они никогда не понимали.
А пока... Пока они пьют. Глоток за глотком. Причмокивая, закрывая глаза, бормоча свое заклинание о вечном покое. Покое кладбища, которое они строят на костях мира. И единственный честный звук в их вселенной — это не их молитвы. Это тихое, сосущее урчание в недрах. Звук конца, который они приняли за музыку сфер. Пиздец, какая ирония.