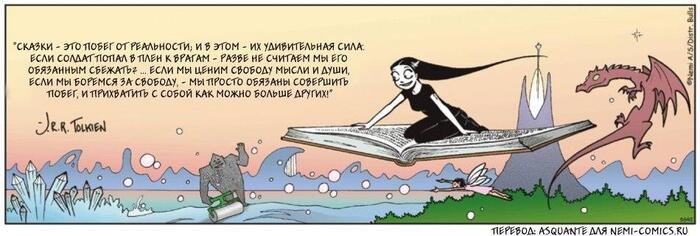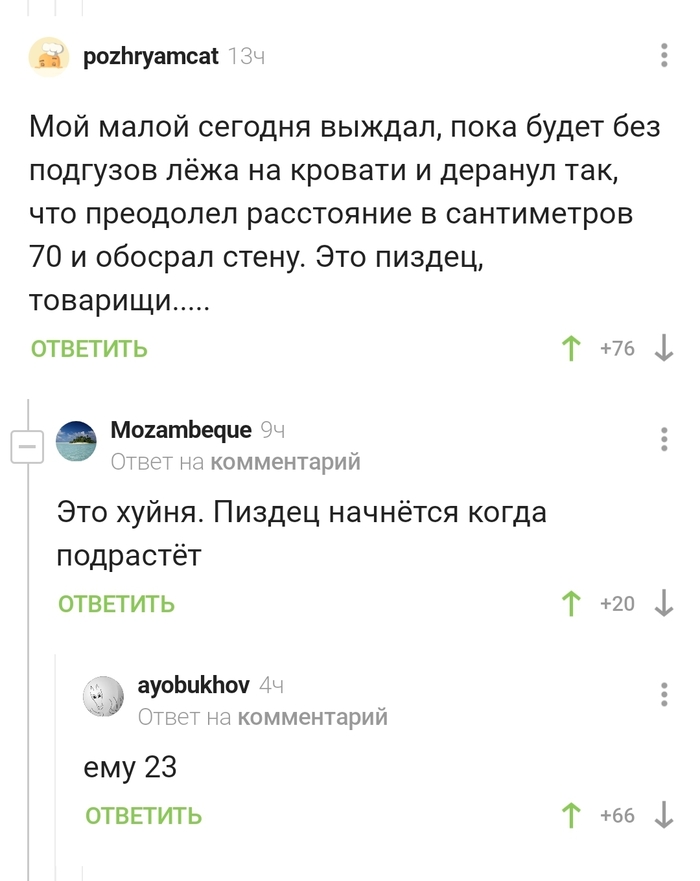О волшебных сказках ч.1 из 5 (On Fairy-Stories) Д. Р. Р. Толкин, эссе
Короткая подводка:
Третьего января — в день рождения Толкина я разместил на Пикабу этот пост: Эскапистам
В нём была картинка с цитатой Толкина:
Сказки — это побег от реальности: и в этом их удивительная сила.
Если солдат попал в плен к врагам — разве не считаем мы его обязанным сбежать?
Если мы ценим свободу мысли и души, если мы боремся за свободу — мы просто обязаны совершить побег, и прихватить с собой как можно больше других!
И сама цитата и позиция Толкина вызвали бурное обсуждение.
В своё время, эта картинка и эта фраза стала стала для меня удивительным открытием и вызвала недоверие. Я искал, точно ли Профессор отчебучил такое (всё-таки цитаты в интернете, всякое может быть) и смог найти её на английском языке. Убедился, что и англоязычная публика переспрашивает, мол, точно ли Толкин такое писал? А если и писал такое, то где?
Так я и набрёл его эссе о сказках On Fairy-Stories.
Толкин любил сказануть подробненько, привык к долгим лекциям и потому отнюдь не стремиться подать материал сжато и ёмко, а так же заинтересовать того читателя, которому его мысли изначально не слишком интересны. Это дополнительно меня подкупает, он не заигрывает с публикой, он изначально понимает, что такое мощное эссе предназначается для узкой аудитории. Как сказали бы сейчас: он безнадёжно проседает по динамике, не попадает в основную ЦА площадок, гонит неформат вхолостую.
В комментариях к тому посту развернулись бурные обсуждения, около сотни тысяч просмотров, десятки тысяч читателей моей книжки, всё как полагается... Большая часть дискуссии проходила в плоскости обсуждения этого тезиса:
Побег от реальности — это хорошо или плохо?
Оно и понятно, ведь слово «побег» само по себе может быть связанно с трусостью или со смелостью, действие «побега» может быть предательством, а может быть подвигом. Потому я и решился опубликовать данное эссе — эти размышления на эту тему о праве и необходимости побега.
Пикабу разрешает только 30 000 знаков на пост, поэтому эссе будет в пяти частях. В оригинале все примечания идут после текста эссе. Я сделал их в формате
цитат,
чтобы не приходилось крутить текст туда-сюда.
Друзья, ещё раз обращаю внимание, что это чтение строго на любителя — это не твит на 200 знаков из серии: лол, кек, чебурек — волшебный мир это крутотенюшка, там эльфы! Дальше, после картинки идёт текст Толкина, серьёзное эссе более 120 000 знаков о литературе и фантазии.
О волшебных сказках
Давайте поговорим о волшебных сказках, хотя я прекрасно понимаю, что это безрассудное предприятие. Страна Чудес — опасный край, неосторожных там ждут ямы — западни, а чересчур дерзких — темницы. Себя я могу причислить к чересчур дерзким, ибо хотя люблю волшебные сказки с тех пор, как научился читать, и много думал о них, я не изучал их на профессиональном уровне. Я всего лишь путешественник, исследователь страны (или нарушитель ее границ), преисполненный удивления, но не обладающий точными сведениями.
Область Волшебного — широка, глубока и высока; её заполняет и населяет масса всякой всячины: там обитают всевозможные звери и птицы; там безбрежные моря и несчетные звезды; там чарующая красота и рядом гибель; радость и горе там остры, как клинки. Тот, кто бродил по Стране Фантазии, вероятно, может считать себя счастливым; но если он пытается рассказать о том, что видел, само богатство впечатлений привычность их связывают ему язык. А когда он находится там, вопросы задавать опасно, ибо ворота могут захлопнуться, а ключи пропадут.
Но все-таки, что бы там жители Страны Фантазии ни думали о дерзости того, кто собирается говорить про волшебные сказки, есть несколько вопросов, на которые от него ждут ответа или хотя бы попытки ответить. Например: что такое волшебная сказка? Как она произошла? Зачем она?
Я попробую ответить на эти вопросы или хотя бы приблизительно подойти к ответу, использовав собранные мной крупицы сведений, взятые, в основном, самих сказок, немногих известных мне из великого множества.
Волшебная сказка
Что такое волшебная сказка? Напрасно вы обратитесь к «Оксфордскому Словарю Английского Языка». В нем нет сочетания «волшебная сказка», и вообще раскрыть суть понятия «феи» он не поможет. В «Дополнении к Словарю» есть понятие «сказка», включенное туда в 1750 году и означающее:
сказку о феях и вообще волшебстве, а в более широком смысле —
рассказ о нереальном или невероятном,
лживые выдумки.
Последние два значения делают мою тему безнадежно обширной. А первое значение слишком узко. Для эссе, пожалуй, не слишком: оно даже достаточно широко для многих книг; но слишком узко, чтобы охватить все, что под этим фактически подразумевается. Особенно, если мы согласимся с тем, как лексикограф определяет фей: «сверхъестественные создания крохотных размеров, которым приписывают магическую силу и умение влиять на дела людей как ради их блага, так и во зло».
Слово «сверхъестественный» сложно и опасно во всех смыслах, и в узком, и в широком. Но к феям его вряд ли можно отнести, разве что посчитать преикс «сверх» — лишь признаком превосходной степени. Потому что не феи, а человек, в противоположности является сверхъестественным (и часто крохотным); а они естественны, гораздо более естественны, чем он. Так им предопределено. Путь в Волшебную Страну не дорога в Рай и, по-моему, даже не дорога в Ад, хотя некоторые считают, что она туда приведет окольным путем, ибо, идя по ней, мы платим дань дьяволу.
«Вон видишь — узкая тропа
В колючей чаще пропадает?
Путь Добродетели, но там
Идти немногие желают.
А видишь — путь широкий лег
В лугах, где линии густые?
То — Путь Греха, хотя его
Дорогой в Рай зовут иные.
Смотри — еще дорожка есть
Через осиновую рощу:
То к эльфам путь, в Страну Чудес.
Пойдем туда сегодня ночью?..»
Из шотландской баллады о Томе Рифмаче: королева эльфов показывает Тому дороги на выбор.
Что касается «крохотных размеров», то приходится признать, что в наше время это считается чуть ли не главной характеристикой. Я частенько подумывал о том, что было бы интересно попытаться точно выяснить, что к такому суждению привело, но моих знаний тут не хватит. В старину в Стране Фантазии в самом деле были маленькие обитатели (хотя, пожалуй, не крохотные), однако определялись они совсем не размерами. Крохотные существа (эльфы и феи) в Англии, по-моему, являются плодом литературноговымысла.
Я говорю о развитии образа до того, как в других странах проснулся интерес к фольклору. На английское слово «эльф» повлияло французское слово «фея», но позднее, когда появились переводы, английские эльфы и феи приобрели оттенки немецких, скндинавских и кельтских персонажей, а также черты халдейских чолозечков, даосских духов и этрусских тагов.
Наверное, в порядке вещей, что в Англии, стране, в чьем искусстве вновь и вновь проявляется любовь к тонкому и изящному, фантазия обратилась к утонченности крошечного, в то время как во Франции она отправилась ко двору, напудрившись и в бриллиантах. Но я подозреваю, что наша цветочно-бабочковая крохотность в данном случае является также продуктом «рационализации», которая трансформировала волшебное обаяние Страны Фантазии в чистую утонченность, а невидимость — в хрупкую крошечность, способную спрятаться в лепестках первоцвета и заслониться травинкой. Это стало модно вскоре после того, как великие путешествия сузили мир так, что людям с эльфами стало в нем тесно; когда волшебная страна Хай Бреазайль на западе превратилась в обычную Бразилию, страну красного дерева.
О том, что в назначении «Бразилия» сыграло роль ирландское название Хай Бреазайль, говорит Нансен.
И, конечно, сработала литература, где сыграли свою роль Вильям Шекспир и Майкл Дрейтон.
Их влияние не ограничивалось Англией. Немецкое слово «эльф» возникло из Виландова перевода «Сна в летнюю ночь».
«Нимфидия» Дрейтона — одна из родоначальниц длинной череды цветочных фей и порхающих эльфов с усиками-антеннами, которых я невзлюбил еще ребенком и которых, в свою очередь, терпеть не могли мои дети.
Эндрю Ланг выражает аналогичные чувства. В его предисловии к «Лиловой Книге Сказок» есть следующее замечание о сказках скучных современных авторов: «...они всегда начинаются с того, что мальчик или девочка идет гулять и встречает фей (эльфов) нарцисса, жасмина или яблоневого цвета... феи стараются быть забавными, но у них это не получается; либо пускаются в нравоучения, что у них хорошо выходит».
Как я уже сказал, все это началось задолго до XIX столетия и давным-давно стало скучно; конечно, утомительно и скучно все время без успеха пытаться быть забавным. «Нимфидия» Дрейтона, хотя и считается волшебной сказкой (историей о феях), — самая плохая из когда бы то ни было написанных сказок.
Стены дворца Оберона сделаны из паучьих ног,
«а окна — из кошачьих глаз;
не черепицей крыта крыша,
а крыльями летучей мыши...»
Рыцарь Пигвиггин скачет на резвой уховертке и посылает своей возлюбленной, Королеве Маб, браслет из муравьиных глаз, назначая свидание в чашечке первоцвета. Но среди всей этой прелести рассказывается скучная повесть с интригами и сводническими ухищрениями; храбрый рыцарь и разгневанный муж проваливаются в болото, и их гнев охлаждают летейские воды. Было бы лучше, если бы Лета поглотила всю эту муть. Может быть, Оберон, Маб и Пигвиггин в самом деле крошечные эльфы и фея, а Артур, Гиньевра и Ланселот — нет; но история о добре и зле при дворе Короля Артура гораздо более похожа на «волшебную сказку», чем эта сказка об Обероне.
Существительное «фея», более или менее идентичное понятию «эльф», — относительно новое слово, при Тюдорах оно почти не употреблялось. Знаменательно первое упоминание в «Оксфордском Словаре» (единственное до 1450 года). Цитата взята из поэта Гоуэра: «Словно он был из фей». Вернее, Гоуэр говорит не так, а «Как будто он из страны эльфов». Гоуэр описывет юного кавалера, вознамерившегося очаровывать девиц в церкви:
«На чуб, причесанный изрядно,
Он водрузил берет нарядный, —
Так может быть зеленый лист
На ветке шёлков, свеж и чист.
С иголочки одетый, смело
На молодую плоть смотрел он,
Как сокол, что при виде дичи
Вот-вот рванется за добычей;
И будто он из эльфов сам,
Вдруг появился среди дам».
Это смертный молодой человек из мяса и костей; но он являет собой более яркий портрет обитателя Страны Эльфов, чем определение «эльф», отнесенное к нему в результате двойной ошибки. Ибо, когда имеешь дело с настоящими обитателями страны эльфов, сложность в том, что они не всегда выглядят такими, каковы они есть, а облекаются в красоту и великолепие, от которого никто из нас не отказался бы. Во всяком случае, частью чар, которые они творят, принося человеку добро или зло, является возможность играть желаниями его души и тела. Королева эльфов, быстрее ветра умчавшая Тома-Рифмача на молочно-белом коне, подскакала на нем к Эйлдонскому Дереву в образе чарующе прекрасной дамы. Так что Спенсер, называя эльфами рыцарей своей сказочной страны, не нарушает традиций. Это название скорее пристало рыцарям вроде сэра Гюйона, чем Пигвиггину, вооруженному жалом шершня.
А теперь, хотя я лишь прикоснулся к теме эльфов и фей (причем совершенно некомпетентно), надо вернуться к началу: ибо я отошел от той темы, которую сам выбрал — Волшебные сказки. Я уже говорил, что значение «Сказки о феях» — слишком узко.
За исключением отдельных случаев, когда имеешь дело с валлийскими или кельтскими (гаэльскими) сборниками сказок. В них сказки о феях иногда отделены от народных сказок, т. е. сказок про всякие другие чудеса. В этом значении словами «волшебные сказки» или «волшебный фольклор» обычно обозначают короткие сказки о явлениях фей или об их вмешательстве в дела людей. Но такое деление получилось в результате перевода.
Оно остается слишком узким; даже если отбросить мотив «крохотности», потому что в английском фольклоре обычно распространены не сказки про фей и эльфов, а сказки о фантастическом, т. е. о том крае или той стране, где феи существуют. В Стране Фантазии кроме эльфов и фей и кроме гномов, волшебников, троллей, великанов и драконов есть моря и солнце, луна; есть небо, есть земля и все, что на ней: деревья, птицы, вода и камень, вино и хлеб; бываем и мы, смертные, если мы зачарованы.
Сказки, касающиеся непосредственно и в первую очередь фей, которые в современном английском могут зваться эльфами, сравнительно редки и, как правило, малоинтересны. Самые хорошие волшебные сказки — это рассказы о приключениях людей в Гибельном Краю либо на его затененных границах. Иначе быть не может; ведь если эльфы существуют на самом деле, независимо от наших сказок о них, то наверняка верно вот что: эльфам до нас нет дела, так же как нам до них. Наши судьбы разделены, и наши пути редко пересекаются. Даже на границах Страны Фантазии мы встречаемся лишь при случайном пересечении наших дорог.
Значит, определение, что такое волшебная сказка, или чем она должна быть, не зависит от того, как мы определяем или опишем фей или эльфов, а зависит от характера Страны Фантазии, самого Гибельного воздуха и духа этой страны. Я не стану пытаться определить и конкретно описывать не возьмусь. Это сделать невозможно. Волшебное нельзя поймать в сети слов; его главное свойство — неописуемость, хотя ощутить его можно. В нем много составляющих, но анализ их вовсе не обязательно раскроет секрет целого. Я лишь надеюсь, что мне удастся, говоря дальше о другом, намеками дать некое понятие о своем, далеком от совершенства, предетавлении. Пока я скажу только одно: «волшебная сказка» — это такая, которая касается Волшебного или использует его независимо от главной цели, т. е. от того, сатира это, приключенческая повесть, мораль или фантастика. «Волшебное» можно перевести ближе всего как «Волшебство», «Магия», но это не магия особого настроения и особой власти, полярно противоположная вульгарному изобретательству трудолюбивого ученого мага. Есть единственное условие: когда в сказке наличествует сатира, ее предметом не может быть сама Магия — над ней нельзя смеяться. Ее надо принимать всерьез, без издевок и без объяснений. В таком серьезном подходе к «Волшебному» превосходным примером может быть средневековая баллада «Сэ Гавэйн и Зеленый Рыцарь».
Даже если согласиться только с этими туманными и неточными ограничениями, становится ясно, что многие, даже знатоки, употребляют понятие «сказка» весьма небрежно. Даже беглый взгляд на последние издания, претендующие на название «Волшебные Сказки», показывает, что сказки о феях, о племени эльфов, и даже о гномах и гоблинах, составляют незначительную часть содержания сборников. Чего и следовало ожидать, исходя из вышесказанного. Кроме того, в этих книгах много рассказов, которые не только не посвящены феям, но не содержат и намеков на волшебное; их вообще не стоило включать.
Сейчас я приведу пару примеров чистки, которую я бы провел. Это поможет лучше увидеть минусы в определении. Таким образом, мы подойдем и к ответу на следующий вопрос: откуда взялись волшебные сказки, где их истоки?
Количество сборников волшебных сказок теперь огромно. На английском языке по охвату, популярности и общим достоинствам, пожалуй, ни одно издание не сравнится с двенадцатью книгами двенадцати цветов, появлением которых мы обязаны Эндрю Лангу и его жене. Первая из этих книг вышла из печати более семидесяти лет назад (в 1889 году) и с тех пор постоянно переиздается. Большую часть включенных в нее сказок можно назвать волшебными. Анализировать их я не собираюсь, хотя анализ мог бы оказаться интересным, но попутно замечу, что ни одна сказка в первой, Синей Книге, не посвящена специально феям, и в очень немногих они упоминаются. Большинство сказок взято из французских источников: в определенном смысле в то время это было правомерно; возможно, и сейчас было бы правильно (хотя мне такое направление никогда не нравилось, даже в детстве). Но нельзя не признать, что с тех пор как в XVIII столетии впервые были переведены на английский язык «Сказки Матушки Гусыни» Ш. Перро, а потом стали широко известны другие сказки из обширного хранилища «Кабинета Фей», влияние Перро стало настолько велико, что попросите любого назвать наобум «типичную волшебную сказку», и он почти наверняка назовет одну из французских: «Кота в сапогах», «Золушку» или «Красную Шапочку». Некоторым, правда, могут первыми прийти в голову «Сказки Братьев Гримм».
Но что сказать о включении в «Синюю Книгу Сказок» «Путешествия в Лиллипутию»? Я скажу так: это не волшебная сказка, ни в том виде, в каком ее сделал автор, ни в «сжатом» стараниями мисс Мэри Кендал виде. Ей здесь нечего делать. Боюсь, что ее включили лишь потому, что лиллипуты маленькие, даже крохотные, — и это единственное, чем они примечательны. Но «крохотность» в Волшебной Стране, как и в нашем мире, — случайность. Пигмеи не ближе к эльфам, чем патагонцы. Я вычеркиваю эту историю из сказок не за ее сатирическую направленность. Сатира, сплошная или включенная с перерывами, встречается в безусловно волшебных сказках, и сатирическое начало часто задавалось в народных сказках и преданиях, хотя мы уже его не замечаем. Я вычеркиваю эту историю за то, что произведение, несущее сатирическое начало, хотя и является блестящим вымыслом, принадлежит к разряду повестей о путешествиях. В таких повестях много чудес, но чудеса эти можно встретить в каком-нибудь уголке нашего мира смертных и в наше время; от нас их скрывает лишь расстояние. У рассказов Гулливера не больше прав именоваться сказкой, чем у небылиц Барона Мюнхгаузена или, скажем, у «Первых людей на Луне» или «Машины времени». В самом деле, у элоев и морлоков шансов даже больше, чем у лиллипутов. На лиллипутов просто сардонически смотрят сверху вниз, с высоты над крышами домов. Элои и морлоки живут так далеко и в такой глубокой бездне времени, что на них уже действуют чары. Если верить, что они происходят от нас, то стоит помнить, что некогда древнеанглийский мыслитель вывел ильфов, т. е. самых настоя эльфов, от Адама через Каина.
Чары расстояния, особенно при такой отдалености во времени, ослабляет лишь сама нелепая и абсурдная Машина Времени. Но в этом примере мы видим одну из главных причин неизбежной неопределенности границ волшебной сказки. Магия Страны Фантазии сама по себе не конечна, ее достоинство — в действии и последствиях, среди которых попадается, например, удовлетворение некоторых исконных человеческих желаний. Одно из них — исследование глубин пространства и времени. Другое (на нем мы остановимся тоже) — общение с другими живущими. Таким образом, рассказ может повествовать об удовлетворении этих желаний с машиной времени или без машины, с колдовством без него, и по мере достижения цели приобретать свойства и оттенки волшебной сказки.
Вслед за рассказами путешественников я исключил бы или вычеркнул все сказки, где применена механика человеческого сна, настоящего сна, который объясняет случившиеся чудеса. Если бы даже в остальном рассказ был по-настоящему волшебным, я бы счел ущербным в целом: так хорошую картину уродует безобразная рама. Конечно, между Сном и Волшебством есть связь. В снах могут высвобождаться неведомые силы духа. В некоторых снах человек может какое-то время обладать волшебной властью, которая творит сказку, вызывая живые формы и краски. Настоящий сон может иногда стать действительно волшебной сказкой, рассказанной с почти эльфийской легкостью и мастерством, — пока вы спите. А бодрствующий автор, говорящий вам, что его сказка ему приснилась, умышленно убивает главное желание, заложенное в самой сути волшебства, — желание воплощения воображаемого чуда независимо от вообразившего его рассудка. О феях часто говорят (уж не знаю, правда это или ложь), что они — творцы иллюзий, что они обманывают человека игрой воображения, «фантазией»; но это ведь совсем другое. Это их работа и забота. Подобные надувательства встречаются в сказках, где сами феи — не иллюзия: за фантазиями стоят реальные силы и реальная воля, независимые от человеческого разума и человеческих целей.
В любом случае истинная волшебная сказка, в отличие от тех, которые под этим названием скрывают заурядную сущность, должна подаваться как правда. Через пару минут я рассмотрю значение слова «правда» в этой связи. Но раз волшебная сказка предлагает чудеса, она не терпит никаких рам и механизмов, которые бы показывали, что вся она — выдумка и обман. Конечно, сказка может оказаться настолько хороша, что вы не обратите внимания на «раму». А может быть, она будет иметь успех как удачный развлекательный сон. Таковы рассказы Льюиса Кэрролла об Алисе, вставленные в рамку сна, с переходами по законам снов. Поэтому (и не только поэтому) они не являются волшебными сказками.
Самый корень (а не только применение) их «чудес» сатиричен; это насмешка нелепостей, где элемент «сна» — не просто инструмент введения и окончания, а неотъемлем от действия и переходов. Если предоставить детям разбираться самим, они смогут это понять и оно им понравится. Но многим, как когда-то мне, «Алиса» преподносится как волшебная сказка, и пока длится это недоразумение, дети чувствуют отвращение к технике сна. В «Ветре в ивах» сон не предполагается. «Крот хлопотал все утро, усердно занимаясь весенней уборкой у себя в домике», — так эта вещь начинается, и верный тон выдержан до конца. Тем более замечательно, что А. А. Милн( восхищавшийся прекрасной книжкой, переделав ее в пьесу, предпослал ей причудливый пролог, в котором ребенок звонит по телефону, держа вместо трубки — цветок нарцисса. Впрочем, может быть, это не замечательно, потому что человек, восхитившийся осознанно (в отличие от просто восхитившегося), никогда не стал бы делать из нее пьесу. Ясно, что только простейшие элементы — пантомима, сатирические элементы басни о животных — можно с успехом представить в форме спектакля. Получилась вполне терпимая развлекательная пьеса на низком уровне драматургии, особенно для тех, кто книжку не читал, но некоторые дети, которых я водил на представление «Лягушонка из Лягушачьей Усадьбы», запомнили из него то, что в начале у них возникло отвращение. А в остальном они предпочли вспомнить книжку.
Есть еще один тип чудесного рассказа, который я не отнес бы к волшебным сказкам, но опять же не потому, что они мне не нравятся. Это сказки о животных. Для примера предложу вам историю, включенную в волшебные сказки Ланга: «Обезьянье сердце», суахильская сказка из «Лиловой Книги Сказок». В ней коварная акула обманом сажает обезьяну к себе на спину и везет в свою страну, а на полпути признается, что султан этой страны болен, и чтобы его вылечить, нужно обезьянье сердце. Обезьяна перехитрила акулу и вынудила ее вернуться, уверив, что свое сердце она оставила дома, где оно висит в мешке на дереве.
Конечно, между сказками о животных и волшебными сказками связь есть. В настоящей волшебной сказке животные, птицы и прочие создания часто говорят, как люди. Это чудо отчасти исходит из одного «главного желания», заключенного в сути волшебства, — желания человека общаться с другими живущими созданиями. Но речь животных в сказках о животных, выросших в отдельную ветвь, к этому желанию уже не имеет отношения, там о нем бывает начисто забыто. Гораздао ближе к сути Волшебного понимание человеком языка животных и деревьев при помощи магии. Если имеем сказку, в которой не замешан человек, где героями и героинями являются звери, а мужчины и женщины, если даже появляются, то лишь как вспомогательные персонажи, и сверх всего образ животного служит только маской человека, т. е. орудием сатирика или проповедника, значит, перед нами всего лишь сказка о животных, басня, а не волшебная сказка, будь то хоть «Лис Ренар», хоть «Братец Кролик», хоть просто «Три поросенка». Сказки Беатрис Поттер, по-моему, находятся у границ Страны Фантазии, но не внутри нее.
Ближе всего, вероятно, «Портной из Глостера». Если бы не намек на все объясняющий сон, так же близко к волшебному оказалась бы «Миссис Тиггивинкль». А вот «Ветер в ивах» я бы отнес к басням о животных.
Приближение происходит от наличия сильного морального элемента: я имею в виду внутреннюю этику, а не аллегорическое морализирование. Но вот «Кролик Питер», хотя и содержит запреты, а запреты в Стране Чудес имеются (как, вероятно, во всей вселенной в плоскости и в любом измерении), остается басней о животных.
Разумеется, «Обезьянье сердце» — всего лишь басня о животных. Подозреваю, что в «Книгу Сказок» она попала не ради своей занимательности, а именно потому, что обезьянье сердце якобы осталось висеть в мешке на дереве. Для Ланга, знатока фольклора, это было важно, даже несмотря на то, что здесь забавная идея — только шутка, потому что в сказке у обезьяны сердце самое обыкновенное и находится у нее в груди. Ясно, что данная деталь — всего лишь вторичная версия древнего и очень распространенного фольклорного мотива, который в волшебных сказках не редок: а именно, представление о том, что жизнь или сила человека или другого создания может находиться в отдельном месте или заключаться в предмете (чаще всего сердце), который можно отделить от тела и спрятать — в мешке, под камнем, в яйце... В одном из известных фольклорных вариантов этот мотив использовал Джордж Макдональд (сказка «Сердце Великана»), сделав его центральным и позаимствовав из широко известных народных сказки еще кое-какие детали.
Например, «Великан, у которого не было сердца» из «Норвежских народных сказок», собрание Дейсента; или «Русалка» в «Народных сказках Западной Шотландии» Кемпбелла; несколько в стороне, но тоже сюда подходит «Хрустальный Шар» Бр. Гримм.
В другом варианте он встречется в Египетском папирусе д’Орсиньи, в «Сказании о двух братьях», по-видимому, древнейшей записанной сказке. Там младший брат говорит старшему:
«— Я заколдую свое сердце и положу его на верхушку, цветущего кедра. Кедр срубят, и мое сердце упадет на землю, и ты придешь искать его, и семь лет проведешь в поисках, а когда ты его найдешь, положи его в сосуд с прохладной водой, и оживу я по-настоящему»
Бадж, «Египетская Хрестоматия».
Если заинтересоваться этим и провести сравненийе, то мы вплотную подойдем ко второму вопросу: откуда взялись волшебные сказки? То есть где исток или каковы истоки элементов Волшебного в них? Ибо спрашивать об истоках сказки (на любом уровне) значит спрашивать о происхождении языка и разума.
Перевод с английского В. А. М.
Оригинальное название эссе: On Fairy-stories
Об этом эссе на википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/On_Fairy-Stories
Взял отсюда: https://omiliya.org/article/o-volshebnykh-skazkakh-dzhon-ronald-ruel-tolkien.html