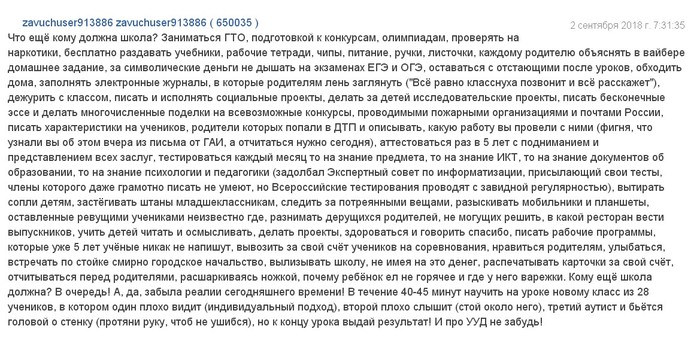Это эссе написано мной ровно 10 лет назад для конкурса "Учитель года". Закончил поздно ночью накануне последнего срока сдачи, отсюда сумбурность. Никаких правок не вносил. Сноски тоже десятилетней давности.
Ученик не пустой сосуд, который нужно наполнить, но факел, который нужно зажечь.
Плутарх
Я никогда не был особенно силён в теории. Проработав в школе лет десять, вдруг выяснил, что, оказывается, работаю по технологии ЛОО, то бишь личностно ориентированного обучения (до сих пор не знаю, нужен ли дефис между первым и вторым словом, в равном соотношении встречал оба варианта написания). Главное слово в этой фразе – личность. Образно говоря (см. эпиграф) суть технологии ЛОО в том, что каждый ребёнок, будь то отличник Вася или двоечник Петя – не пустые сундуки, различающиеся лишь размерами, которые учитель должен заполнить некими знаниями, а субъекты, весьма сильно различающиеся между собой. Один готов поглощать знания и умения из любви к учению, другой – из честолюбия, третьего мама заставляет, четвёртый ничего не делает на уроке из лени, пятый хочет доказать одноклассникам, что он самый крутой и ничего не боится, шестой безнадёжно отстал и теперь просто не в силах усваивать новый материал… Эту цепочку можно продолжать чуть не до бесконечности. Но всё это вовсе не значит, что мы должны принять личность ребёнка такой, какая она есть. Ведь, скажем, «вор в законе» – безусловно, личность, причём, в гораздо большей степени, чем «премудрый пескарь». Но наше счастье, что ребёнок является личностью формирующейся, и от педагогов в значительной степени зависит, во что она разовьётся. Поэтому главную задачу системы образования я вижу в формировании личности гармонично развитой, позитивно настроенной, способной к самосовершенствованию. Может, на практике это почти не достижимо, но такова программа-максимум. А минимум же, наверное, в том, чтобы каждый ребёнок делал хотя бы небольшой шажок вперёд, становился лучше себя самого вчерашнего.
Я – историк. История – специфический предмет. На первый взгляд кажется, что незнание истории чревато для человека в худшем случае глупым положением в вагонном споре, да и то всегда можно сослаться на мнение какого-нибудь альтернативного академика. На самом деле всё гораздо сложнее. «История ничему не учит, она лишь наказывает за незнание», - писал В.О. Ключевский. Невыученные уроки приводят людей не под те знамёна, заставляют сражаться не с тем врагом. «Размышления без знаний опасны», - говорил Конфуций. Таким образом, история – это самая воспитывающая наука, и от историков в большей степени, чем от других предметников зависит, что за люди в итоге выйдут из стен школы. Но знание фактов – это ещё не всё. «Знания без размышлений напрасны», - так начинается афоризм мудрого китайца. Я стараюсь научить детей думать, отстаивать собственное мнение, но также и прислушиваться к чужому мнению и признавать свои ошибки. Кстати, всегда хвалю за оригинальные, хотя и неверные идеи и выводы. Не люблю лишь «глупость ради глупости», с какой бы целью (повеселить публику, потянуть время или просто, чтобы отстали) она ни прозвучала.
Сам псих, и других психами делаешь.
Давыдов
(М.А. Шолохов, «Поднятая целина»)
«Юрий Викторович – самый лучший учитель на свете», - читаю на доске. Пятиклашки. На переменах конфетами угощают. Как им объяснить, что не люблю сладкого? Интересно, скоро ли это пройдёт? У нынешних семиклассников прошло в шестом. У них другие разговоры. «Тебе, Косенков, я бошку оторву, если ты на истории болтать будешь!» Это Владик Остапенко. Он любит историю. Он хочет мне помочь: его одноклассник мечтает, чтобы его выгнали из школы, поэтому старается от всей души, и никто ему не страшен. Эх, Владик, голову ему я и сам смог бы оторвать, да нельзя мне. Учитель я здесь. «И ведь оторвёт, так что советую подумать», - говорю. Дожили… Уже пионэры за меня заступаются.
Завидую… Всем завидую. Нет, не в том смысле. Завидую предшественникам. Уж как ругали дореволюционную школу. Латынь с греческим, кондуит с «безобедами», Беликов с Передоновым, зубрёжка, Камчатка, единица с двумя минусами… Кстати, давно ли вы видели «единицу»? А в классном журнале? То-то! Скоро и о двойках забудем. А вот в гимназии и Соловьёв с Ключевским учились, и Менделеев с Бутлеровым, и Блок с Маяковским. И ничего, вроде. Да и Владимир Ильич с Надеждой Константиновной тоже не церковноприходскую заканчивали. И ведь не двоечники были. Чем же Крупской так гимназии помешали? Между прочим, в каждом классе был освобождённый от преподавания классный наставник, занимавшийся только, как сейчас принято говорить, воспитательной работой и получавший столько же, сколько преподаватель. А зарплата преподавателя реально соответствовала зарплате госчиновника – ведь ставка рассчитывалась не от количества уроков, а от чина по Табели о рангах. А о переборе часов и речи быть не могло. Потому и была профессия почти чисто мужской: жена домом и детьми занимается, а супруг деньги зарабатывает, да не задумывается, как бы до получки дотянуть. При такой жизни и детсады не нужны. Никогда больше учитель у нас не был поднят на такую высоту (1) .
Впрочем, не всё было так плохо и при Советской власти. «Старика Хоттабыча» помните? Не самый плохой ученик шестого класса имел вполне реальный шанс «завалить» экзамен по географии. Нынешним детям не понять: их деды экзамены в каждом классе сдавали! Их могли оставить на второй год!!! И сиди, дорогой товарищ, хоть по три раза в каждом классе. А потом дуй в ФЗУ и получай рабочую профессию. Жестоко? Может быть, только вот даже среди нынешних пожилых руководителей среднего звена хватает бывших ФЗУшников. Там мозги быстро вправляли. А потом армия, институт, карьера. Система работала, причём весьма эффективно.
Нам, детям восьмидесятых, повезло больше (или меньше). Мы тоже обходились без целеполагания и рефлексии. И ничего. Я, стопроцентный гуманитарий, щёлкаю задачки по геометрии за любой класс, легко решаю химические уравнения по неорганике, могу прочесть лекцию о систематике млекопитающих. Между прочим, по этим предметам у меня в аттестате «четвёрки».
Может, дети тупеют? А похоже. Сейчас в каждом классе один-два дебила со справками, три-четыре неофициальных, плюс столько же ЗПРов. Скоро все превратимся в олигофренопедагогов, а нормальные ученики превратятся в стабильное меньшинство.
Пришло мне липо с голот
мереть, липо ушитель.
Адам Адамыч Вральман
(Д.И. Фонвизин, «Недоросль»)
Да ещё скоро переведут на подушевое (2) . Это ж сколько мы в зарплате потеряем? Так какого чёрта я забыл в этой проклятой школе? Диплом менеджера в кармане, мозги в голове, энергии через край. Да меня в любой фирме с руками оторвут. Вот только…
Вот только летом старый друг приезжал. Вместе учились, вместе профессию выбирали. По пятнадцать лет в школе отпахали. Я-то уже шестнадцать. А вот он нет. Ушёл. В «Эльдорадо». Менеджером по претензиям. Смеётся: «Когда на работу брали, предупреждали: работа, мол, нервная. Это вы мне говорите? Да у вас тихий пансион для отдыхающих по сравнению со школой». Получает он теперь вдвое… Кучу дисков подарил с учебными программами. Как будто мосты за собой сжёг. «Не жалеешь?», - говорю. «Что ты, - отвечает, - доволен, как слон». Только глаза какие-то тусклые стали. Хотел ему разработки новые показать, чувствую: не стоит. Ещё не зажило… Школа – как марихуана: привыкнуть к ней трудно (детям говорить об этом, конечно, нельзя, но это правда), но уж если «подсел», «соскочить» ещё труднее (прошу прощения за слэнг и за такое сравнение: может оно и некорректное, но, по-моему, верное).
Ага, получается, что в школе меня держит сила привычки? И не детей я люблю, а себя, в роли благородного страдальца, бескорыстно (ну, почти) сеющего разумное-доброе-вечное, окружённого восторженно-благодарными учениками? Чтой-то мерзко. Пора бросать. «Педагогика не для вас, юноша. Уходите, не калечьте детей». Кто говорит-то? Совесть? Или предки, тоже учителя, Бог знает до какого колена? Нет, не они. Они словечко «педагогика» наверняка ненавидели, также, как и я. Сравните: педагог в Древней Греции – это раб, сопровождавший хозяйских пацанов в школу. А Учитель? Именно так переводят в каратэшных боевиках китайское понятие «сенсей». Индийский «гуру» из той же оперы. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. В общем, долой педагога, да здравствует Учитель. Да вот, только, похоже, все мы – педагоги. Это всем нам бывший двоечник Вовочка, проносясь мимо на шикарной иномаре и обдав грязью, пренебрежительно предлагает засунуть подальше свою историю (физику, алгебру, биологию, русский и т.п.). Да и успешные в жизни выпускники-отличники относятся к нам свысока. «Вы всё там же?», - спрашивают с оттенком лёгкого сочувствия, замешанного на пренебрежении. Да что далеко ходить: из моего суперкласса (треть из нас поступила в Универ с первого захода, плюс политех, мед и другие кемеровские ВУЗы) нашей бывшей классной даме, нашей Надежде, как мы её за глаза называли (даже прозвища не надо было!), действительно, настоящему Учителю (и Воспитателю, и просто Человеку) периодически звонит – угадайте, кто? Правильно, я, живущий за четыре сотни вёрст. Товарищ по несчастью? Может, такова судьба учителя: как старая вещь, давно вышедшая из моды, которую жалко выбросить, (авось пригодится), но и вытаскивать из дальней антресоли не хочется…
Держи же меня за шкирку,
Живущий во мне мальчишка.
Держи же меня за шкирку,
Не дай мне сорваться вниз.
Олег Медведев, бард
А ведь в свои школьные годы я смог лицезреть чуть ли не все учительско-педагогические типажи. Помню литераторшу с зашкаливающим самомнением, не сумевшую опознать раннего Маяковского из моей тетрадки (она решила, что это мои стихи и настойчиво предлагала поучаствовать в конкурсе). Помню биологичку (тоже без прозвища, но по другой причине), на уроках которой меня бросало в холодный пот, если подо мной скрипнет стул (хотя знания давала – от и до). Помню физкультурника, убеждавшего меня, вратаря школьной команды, что «голкипер» - это тот, кто забил гол. Помню историчку (слава Богу, нас не учила), потому что ребят из её класса невозможно было обыграть в баскетбол, хотя у них не было сильных игроков: они каждый матч бились, как последний раз в жизни, с нехорошим зомбоидным блеском в глазах: знали, что класснуха не простит им даже второго места. Их и обыгрывать-то было неприлично: нам-то, в конце концов, за поражение ничего не будет. Но, слава Богу, были и другие. Помню Нину Фёдоровну, Учителя литературы, маленькую старушку (сейчас её уже нет в живых), которая так читала стихи, что девчонки всхлипывали. Помню Людмилу Владимировну, Учителя истории, тогда довольно молодую, чьи «вопросы для умных» часто ставили в тупик даже меня, общепризнанного «знатока» (тем интереснее было искать на них ответы). Помню первого Учителя – Людмилу Викторовну. Сколько же ей было лет тогда? Посчитаем. Школу она закончила в семнадцать, два года педучилища. Стало быть девятнадцать, максимум двадцать. Я понимаю, для малышей первая учительница, какая бы ни была – высший авторитет. Но я и сейчас уверен, что именно она воспитала во мне очень многие черты, и уж точно подрубила раздутые дома до непотребства самонадеянность и тщеславие. Она выпустила нас из началки и ушла из школы. Совсем. Много позже дошло, что «ушли» её из-за меня: в самом конце третьего класса на уроке физкультуры, («малышкового спортзала у нас не было и все занимались в коридоре), во время беговой разминки неожиданно открылась дверь одного из кабинетов, и острой дверной ручкой мне разрубило правый бицепс… Представляю, что ей пришлось выслушать от Гориллы Петровны… Сейчас подобная история могла закончится ещё и похуже, или я не прав?
Помню и Надежду. А ведь я не был у неё ни на одном уроке: она преподавала английский, а я «француз». Она была просто классной дамой. Сейчас вот вспомнил, как она на нас орала. Не стесняясь в выражениях. Минут десять, точно. Это мы в десятом на овощебазе, до тошноты обожравшись спелейшими дынями, (нас поставили разгружать вагон), начали откровенно свинячить. Одиннадцать здоровенных усатых парней слушали всё это, боясь оторвать взгляд от собственных ботинок и мечтая провалиться от стыда. Мы долго потом не могли смотреть в глаза друг другу. Уверен: никому, кроме неё, таких слов в свой адрес мы не простили бы…
Я давно не был на родине. Мы не виделись 13 лет. Надежде скоро шестьдесят, но она продолжает работать. Давненько я не звонил, кажется, ещё в мае. Нет, сейчас не буду. Потом. После конкурса…
За всё мы, комсорги, в ответе
Пока у нас сердце стучится!
Старая комсомольская песня
Ну и к чему я всё это сейчас рассказывал? Какое это отношение имеет к моей философии, да ещё и педагогической? А вот и имеет. Не повезло Горькому: он всем хорошим обязан книгам. Я тоже был книжным мальчиком, но всё же школе я обязан очень многим. Наверное, не только хорошим. И, наверное, не только своей, Кемеровской полста пятой, но и Кошелёвской, где я, ещё студент-пятикурсник, в сущности, ещё мальчишка, хотя и с семьёй, начал, так сказать, трудовые будни и создал (не один, конечно, вместе с другими учителями) некий странный, несовершенный, но чертовски обаятельный и вечно любимый мной микрокосм. Он есть и сейчас, но уже без меня… Да теперь и не представляю жизнь без своей, теперь уже родной Новоозёрской. Здесь работали и работают прекрасные учителя, но, не хочу никого обидеть, почему-то десять лет назад школа, как мне кажется, благополучно «загибалась». Её «вытащили» (правда, ещё далеко не полностью) «варяги». Чужаки. Приезжие. Мы с женой – одни из них. Не главные, но и не последние. И я люблю эту школу. Я люблю эту дурацкую, неблагодарную работу. Нет, не дурацкую. Не дурацкую, потому что я видел жажду познания и радость узнания в глазах детей, потому что многие мои ученики огорчаются, когда звенит звонок с урока, потому что надеюсь, что хотя на моих уроках не всегда бывает весело, но никогда не бывает скучно. Да и не такая уж она неблагодарная, эта работа. Мне пишут электронные письма (из Германии). Часто бывшие ученики подсаживаются в электричке. То помощь нужна, то совет, то просто, «за жизнь» поговорить. Несколько раз взрослые парни, уже после армии, приходили проситься на урок. Пускаю. Даже те, кого вспоминаю без особого удовольствия, иногда приходят. Извиняются. Один в конце урока попросил слова и минут пять объяснял восьмиклассникам, какой он был дурак, что в своё время не учился. Иной благодарности от детей мне и не надо.
В общем, я счастливый человек. У меня хорошая, дружная семья. У меня любимая работа. Наверное, не просто профессия, а призвание. Это не значит, что я доволен собой. Мне ещё учиться и учиться. Я бы на курсы каждый год ездил, да только кто ж меня отпустит. Я тоже частенько не хочу идти на работу, прихожу злой и раздражённый. Но стоит начаться уроку, как у меня пропадает депрессия и головная боль, все проблему куда-то отступают. И хочется надеяться, что этот отрезок своей жизни, не такой уж длинный, я всё-таки прожил не зря…
Dixi et animam levavi.
Сказал и облегчил душу.
1) Парадокс, но в те времена гимназический преподаватель зарабатывал гораздо больше земского учителя, а качество знаний (в истинном значении этого слова) в земских школах подчас было повыше гимназического. Просто для одного гимназия была работой, а для другого – призванием, если угодно – служением. Да и отношение учеников несколько разное.
2) Свежая шуточка. Говорят, что 2010 год объявят годом учителя. Точно. Того единственного, СУПЕРУЧИТЕЛЯ, который после всех пертурбаций доживёт до 2010 года.
PS 2018 года. Конечно, сэнсей - не китайский, а японский учитель. Ошибся, бывает. А мой упомянутый друг вернулся в школу ещё в 2010. Сказал, что стал тупеть.