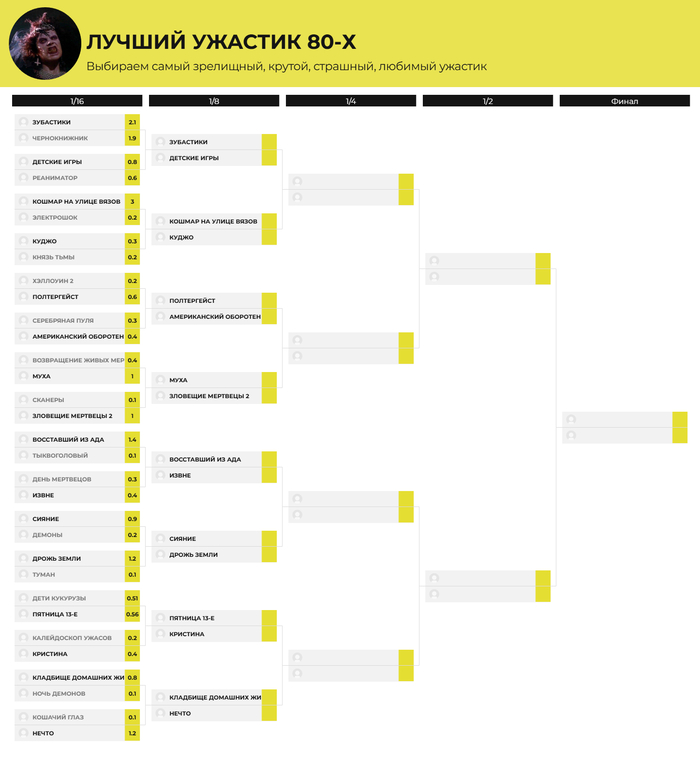Вагон спецпоезда Москва–Новосибирск. Снаружи уже алеет вечер, пробиваясь внутрь красными квадратами сквозь ржавую решётку на окне. В купе за железными прутьями едут четверо пацанов лет по шестнадцать–семнадцать. За стеклом в предзакатном багрянце изредка мелькают огни посёлков. И вдруг вдалеке, на холме, показался контур здания: вышки, забор, серые безликие корпуса.
– Смотрите-ка в окно, это не восемнадцатка? Петушиная, которая? – сказал Саша, голубоглазый парень, который всю дорогу смотрел в окно.
– Не, ещё не доехали до неё, – сидя скрестив руки на груди и не открывая глаз, проговорил Витя.
– Да она это, Витек, ты сам посмотри, вон он, гребень-то, – указал на торчащий шпиль Ваня.
Паша никогда не интересовался криминальным миром, его нравами и законами; в тюрьму попал потому, что убил насильника своей сестры, и намеревался тихо-мирно отсидеть особняком, не влезая в разборки.
– А че она петушиная-то? – спросил он.
– Ооо, оно и видно – залётчик ты, Пашка, с арестантской историей совсем не знаком. Двойка тебе, епты, – ответил ему Ваня.
– Ну так просвети меня, знаток, бля.
– Короче, восемнадцатка, или для таких как ты, ИК номер 18 – это особенная зона. Штука её в том, что по сути большинство там петухи или опущенные, но живут они как порядочные арестанты. Никто их очко драить не заставляет, в жопу не ебёт, не пиздит, а едят они за одним столом со всеми.
– Всё-таки не верю я, что такое возможно, – открыл наконец глаза Витя и посмотрел на Ваню. – Не, ну ты сам подумай, байки это все, как будто.
– Эх ты, Витя, Витя… Вроде не первоход, а всё не веришь. Ты же сам историю эту сто раз слышал. И не от шестёрки какой-нибудь, а от Казана, он порядочный сиделец, сам знаешь, пиздеть не будет.
– Да я понимаю, но всё равно… в башке не укладывается.
– Погодите, а как так получилось внатуре? Это же не по понятиям, – вмешался в спор Паша.
– А там, Паша, закон не воровской, а «Тюлькин»… – продолжил Ваня.
– Не кто, а что. Мне Казан рассказывал, он там этапом был. Раньше была зона как зона. Как везде. Опущенных гнобили, унижали, «опускали» дальше, если можно. Так было, пока в восьмую камеру третьего корпуса не заехал один пацан. Имени его никто не знает, да и за что заехал – тоже. Одна кличка – «Тюлька». И вот Тюльку-то этого быстренько определили в петухи за то, что был на бабу похож и постоять за себя не мог. Опустили, конечно, по беспределу, но там кто разбираться будет? Так вот… жил Тюлька в петушином кутке свою петушиную жизнь и каждую ночь плакал, лежа на полу. Ранимый, души человек был, интеллигент. И вот однажды, после отбоя, один, говорят, сиделец заметил, что Тюля плачет вроде, но как-то странно: то ли булькает, то ли хрипит, спать, сука, мешает. Ну он и прикрикнул на него, дескать, петушара, завали хайло. Ну, Тюлька и затих, а наутро нашли его с лезвием от одноразовой бритвы в руке и с перерезанным горлом.
– Ну и? Помер и помер. История не нова. У нас тоже Валя удавилась, помните? – начал было Паша.
– Вот тут-то и оно. Слушай дальше. Началось всё с мелочей. В восьмой камере начали двигаться вещи сами по себе. То у одного пачка «сиг» в параше плавает, то нарды сами по себе разложатся в рисунок. А одним утром вообще проснулись, а ложки у всех дырявые. Поначалу думали, шутник в хате завёлся, и решили на ночь оставить одного зэка, чтобы узнать, кто такой юморист. Наутро встал смотрящий узнать, что ночью происходило, а узнавать уже не у кого. В решётку от нар бошку зэку засунул кто-то и прутьями зажал. Задохнулся. На следующий день уже другого нашли, на табуретку насаженного, – разрыв прямой кишки, кровотечение, врачи сказали. Тут-то арестантам не до смеха стало, начали в дверь ломиться, хоть и западло, просили переселить их. Кум согласился и раскидал бывшую восьмёрку по разным камерам. Да только не помогло это. Те, кто опускал Тюльку, дохли подряд страшной смертью. Последним был уже почти ёбнувшийся смотрящий. Говорят, он стоял на коленях два дня и орал: «Ну прости ты нас! Прошу, не надо! Прости меня!». Он утонул в толчке, наглотавшись парашной воды. С тех пор пошла по камерам нехорошая молва о призраке на зоне.
– Ебать… – сказал Паша с гримасой омерзения на лице.
– Э-э-э, нет, это ещё не конец, паря. Дальше – больше, зона начала редеть, дохли в основном блатные, кто по-воровскому двигается. Нетронутыми были как раз петушня и простые мужики, которые случайно на зоне оказались. Из-за количества смертей кума уволили и нового поставили, а зону заселили арестантами с других лагерей. Смерти продолжались, пока на совещании один майор не предложил всю черноту с зоны убрать и полностью петухами и первоходами заселить.
– И как помогло? – прервал рассказ Паша.
– Ещё как. С тех пор так и прозвали эту зону «петушиной». Хотя петухи там не все. Есть мужики, но вот воров… попадали туда иногда, но никто не задерживался там долго. Либо просили перевести, либо подыхали.
В купе воцарилась тишина. ИК-18 давно уже скрылась из вида. Перед глазами ребят пролетали силуэты окутанных снегом деревьев, а затем вдруг наступила темнота. Парни вздрогнули, но это всего лишь поезд заехал в туннель.
Ваня, глядевший в одну точку, внезапно прервал молчание и стал говорить будто не своим голосом:
– Он наказывает лишь тех, кто хочет безнаказанно унижать. Кто ставит себя выше из-за масти, из-за силы, из-за понятий. Говорят, если просто драку честную устроить, по злости, на равных – он не тронет. А вот если слабого, того, кто не может ответить… тогда жди. Скрип дверей ночью. Холод из щелей. И чувство, что за тобой наблюдает не человек, а сама эта зона. Её стыд. Её боль.
Витя отмахнулся, выйдя из оцепенения:
– А как тогда жить-то? Если ни власти иметь нельзя, ни сидельцем порядочным быть? С петухом с одного стола жрать? Ещё за ручку с ними здороваться?
– А как в больнице, Вить, – сказал долго молчавший Саша. – Все больные, и каждый лечится от своего недуга. Там и живут – тихо. Работают. Отбывают. Без лишних слов. Самое страшное наказание там – не карцер, а внимание… этого. Поэтому там самый крепкий мужик может спокойно сидеть рядом с «петухом» и молча есть баланду. Потому что он не боится стать зашкваренным. Он боится встретиться взглядом с тем, что ждёт в темноте. И понять, что ты для него – просто очередная мразь, такая же, которая когда-то опустила его самого.
Когда свет вернулся, все сидели, избегая взглядов друг друга. Зона ИК-18 осталась далеко позади. Но её тень, тень «петушиной» зоны с её немым стражем, казалось, накрыла их вагон и тихо ехала с ними вместе, затаившись в скрипе колёс, в рокоте на стыках рельсов.
Поезд мчался в ночь. А в купе больше не было слов. Только тихий, всепроникающий ужас перед местом, где закон джунглей отменило привидение. И где самое страшное – не быть на дне иерархии, а попытаться эту иерархию выстроить.